Статья о том, как общества обеспечивают свою изменчивость — и те общества, которые изменений не боятся, и те, которые их опасаются. Но изменения нужны, и внутри общества формируются необходимые для этого институты.
Г.Сатаров. Посвящается памяти Алексея Михайловича Салмина – первого критика данной работы. semanticscholar.org
Предисловие к Интернет-публикации “Как возможны социальные изменения: Обсуждение одной гипотезы” Данный текст – результат трехлетней работы автора. В ней сконцентрированы идеи о роли случайного в социальном порядке, в социальном развитии. Введено понятие институтов хаоса и анализируется их роль в социальной динамике.
Этот текст не предназначался для научной публикации. Его жанр – внутренняя рабочая организация размышлений. Но последний год у меня было немало выступлений на данную тему, которые встречались с весомым интересом; спрашивали – что можно прочитать. Сейчас по части данного материала сдана статья в журнал “Общественные науки и современность”, готовиться еще одна статья. Но пока они не выйдут, у меня не будет ответа на упомянутый выше вопрос моих слушателей. Поэтому я решил опубликовать данный текст на сайте Фонда ИНДЕМ, предав ему более или менее законченную форму. Я сознаю, что текст сыроват. Работа продолжается, и сейчас я располагаю большим материалом по институтам хаоса, выходящим за пределы публикуемого текста. Но я решил полезным запустить в интеллектуальный оборот содержащиеся в работе мысли. Рассчитываю на заинтересованную критику. P.S. Я снабдил текст иллюстрациями, которые я использовал в презентациях. Это все-таки Интернет! (Среди иллюстраций – несколько работ Мещанова, найденные мной в сети.)
Георгий Сатаров
Как возможны социальные изменения: Обсуждение одной гипотезы
Постановка задачи
Надеюсь, читатели не заподозрят автора в плагиате на том основании, что вопрос, вынесенный в заголовок статьи, продолжает серию, начатую Кантом: “Как возможна природа?”, и подхваченную Зиммелем: “Как возможно общество?”. С тех пор, как Огюст Конт основал новую науку об обществе, вопрос о социальных изменениях стал одним из основных. Историки науки не случайно фиксируют внимание на времени возникновения социологии, подчеркивая, что она появилась на свет именно тогда, когда стала возможна рефлексия обществом собственных изменений. С тех пор объяснение этого явления стало одной из ключевых задач социологии. Однако коллективные усилия мыслителей охватывали два основных блока проблем. Первый – “морфология” социальных изменений (направление, стадийность, цикличность, устройство и т.п.). Второй блок – факторы, причины социальных изменений (структурные, экономические, культурные и т.п.). Между тем, не смотря на то, что мы живем в стремительно меняющемся мире, проблематична сама возможность социальных изменений. Или, другими словами: почему социальные изменения возможны вообще? Вопрос может показаться наивным, но это впечатление рассеется, если принять во внимание серию других вопросов, порождающих главный, приведенный выше.
Вопрос первый. Мы сосуществуем рядом, в одно и тоже историческое время, с общностями, находящимися, согласно нашим же классификациям, на иных стадиях развития. Первобытные племена, изучаемые нашей наукой, отличаются от нас, прежде всего, крайне жесткой и стабильной социальной организацией. Наблюдаемая сегодня динамика есть динамика вырождения этого социального порядка в результате неосторожного вмешательства чуждой ему цивилизации. Иной динамики не наблюдается. Это может быть связано с тем, что речь идет об обществах на той стадии развития, на которой социальные изменения совершаются настолько медленно, что несколько сотен лет, в течение которых фиксируется наблюдения – просто миг по сравнению с темпами таких изменений. Возможно, мы наблюдаем свое относительно стабильное прошлое. Но в этом прошлом, каким оно предстает перед нами сейчас, нас не наблюдали представители более развитых цивилизаций с других материков. Нам не привозили бусы, огненную воду и прочие чудеса. У нас даже не было возможности вырождаться под их благотворным влиянием. Но эмпирический факт налицо: прошло несколько сотен тысячелетий, и мы изменились. Что было в том жестком социальном порядке, что привело к изменениям? Что позволило им произойти? Вряд ли речь может идти о тех обычно упоминаемых факторах, которые обсуждаются при анализе социальных изменений в том промежутке истории, который доступен нашему изучению благодаря письменности: перенаселенность, технологические инновации, культурные прорывы и т.п.
Вопрос второй. Предуведомим его обширной (в силу важности) цитатой из Бергера и Лукмана: “Человеческому организму не хватает биологических средств, чтобы обеспечить стабильность человеческого поведения. Человеческое существование, если бы оно опиралось только на ресурсы организма, было бы весьма хаотическим. Хотя подобный хаос и можно представить в теории, на практике он маловероятен. В действительности человеческое существование помещено в контекст порядка, управления, стабильности… Внутренняя нестабильность человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы человек сам обеспечивал стабильное окружение для своего поведения… Иначе говоря, хотя ни один из существующих социальных порядков не может быть установлен на основе биологических данных, необходимость в социальном порядке как таковом возникает из биологической природы человека” [1]. Из этих рассуждений следует вывод – стабильность социального порядка является необходимым условием выживания социальных общностей. Стабильность становится не только универсальной ценностью, но институализируется и обретает организационные формы. Общество тратит значительные ресурсы не только на поддержание своего физического существования, но и на охрану стабильности социального порядка. Стремление институтов к стабильности неоднократно отмечалось социальными мыслителями и, естественно, имеет немало исторических свидетельств, из которых инквизиция и гестапо лишь немногие и весьма свежие. Общество направляет большую часть своих ресурсов на создание институтов подавления, которые должны подкреплять привычки, традиции, сыновнее послушание и многие другие установления только для одного – обеспечить стабильность социального порядка. На этом фоне возмущения социальной среды, предпринимаемые “диссидентами”, кажутся ничтожными. Почему же тогда возможны социальные изменения?
Вопрос третий. Весь процесс социализации человека сопряжен с его встраиванием в окружающий его социальный порядок. Он привычен для него. В процессе первичной и последующих социализаций, усваивая и воспроизводя социальные практики, он, тем самым, укрепляет социальный порядок, свое место в нем и свою убежденность в его незыблемости. Результат – жесткость социального порядка – создает, как правило, ощущение комфорта, а сам социальный порядок видится стабильным и незыблемым. Мэри Дуглас, одна из теоретиков наступления цивилизации рисков, пишет об этом так: “… конечно, томление по твердости присуще всем нам. Это заложено в нашей человеческой природе – стремится к жестким линиям и ясным концепциям[2]”. Итак, социальный порядок стабилен и необходим. Он как кожа, привычная и защищающая. Он, согласно Гидденсу, не только ограничение, но также условие и возможность существования и деятельности[3]. Но этот же индивид может являться агентом социальных изменений. Что может зародить в нем сомнения в этом социальном порядке, в его правильности, справедливости, стабильности, наконец? Или: почему же возможны социальные изменения?
Эйзенштадт пишет: “Функционирование любого механизма разделения общественного труда сопровождается попытками различных участников монополизировать доступ к социальным позициям и ресурсам, стремлением установить соответствующие нормы, чтобы укрепить и сделать постоянным такое устройство. И хотя эти нормы призваны обеспечить стабильность социального взаимодействия, они обычно воспринимаются как произвольные, принудительные и несправедливые.”[4] Между тем, слово “обычно”, мягко говоря, не совсем точно. Практика революций демонстрирует нечто совершенно противоположное: в силу указанных выше причин людей крайне трудно убеждать в несправедливости действующего социального порядка. Если уж говорить об “обычно”, то оно связано с распространенными представлениями о несправедливости акторов, нарушающих справедливый социальный порядок (замена “плохого царя” на “хорошего”). Поэтому распространение представлений о несправедливости действующего социального порядка крайне трудно, и если это происходит, то должно вызывать удивление и требовать объяснения, а не упоминания как о чем-то само собой разумеющемся. Интересно, впрочем, что сразу вслед за приведенной цитатой идет текст, совершенно не связанный с предшествующим, но крайне важный. “Потенциал нестабильности и беспорядка, вероятность восприятия общественного разделения труда участниками как произвольного возрастают от того, что эта исходная неопределенность находится в системной связи с организационными основаниями социального взаимодействия – структурированием коллективов, институтов и макросоциального порядка.”[5] Представляется, что здесь Эйзеншдадт задевает корень проблемы, намекая на то, что потенциал будущего изменения социального порядка содержится в нем самом. Но дальше он не раскрывает этой идеи и переходит, по традиции, к описанию морфологии и факторов революционных преобразований. Но его идея будет использована ниже при формулировании гипотезы, обсуждаемой в данной статье.
Вопрос четвертый порождается способами обоснования и описания социальных изменений, которые нередко превращаются в свою противоположность. В качестве примера приведу концепцию цивилизационных изменений Н. Элиаса. Чтобы быть доказательным, снова прибегну к точному цитированию вместо вольного пересказа. “… с древнейших периодов западной истории и вплоть до настоящего времени под давлением сильной конкуренции происходит рост дифференциации общественных функций[6]. Чем сильнее они дифференцировались, тем большим становилось их число, а тем самым, и число людей, в зависимости от которых оказывался каждый индивид, – независимо от того, идет ли речь о простейших и повседневных его обязанностях или о самых сложных и специфических сторонах жизни. В результате, для того, чтобы каждое отдельное действие могло выполнить свою общественную функцию, поведение все большего числа людей должно было во все большей мере соотносится с поведением всех прочих, а сеть действий должна была подчиняться все более точным и строгим правилам организации. Индивид принуждается ко все более дифференцированному, равномерному и стабильному регулированию своего поведения.[7]” Описывая динамику, Элиас фактически обосновывает процесс ужесточения социального порядка. Если воспринять его описание буквально, то поневоле возникает образ улья с его жестким, можно сказать – алгоритмическим, распределением ролей между пчелами[8]. Единственное отличье от улья – увеличение со временем числа жестко выполняемых ролей. Может ли эта картина социальной динамики не вызывать недоумения и тех же вопросов, что уже сформулированы выше? Ведь социальная дифференциация – форма социальных изменений, но чтобы они происходили должна существовать возможность таких изменений. Итак, все четыре “недоумения” приводят к одному и тому же вопросу: “Как возможны социальные изменения?”. Общепринятые ответы на него указывают на макро-факторы, которые могут вызывать изменения в социальном порядке. Но остается открытым ответ на следующий вопрос: как и почему, с учетом перечисленных выше препятствующих обстоятельств, создаваемый, укрепляемый и охраняемый агентами социальный порядок уступает этим напряжениям?
Как это часто бывает, сформулировав для себя этот вопрос, я, несколько позднее, наткнулся на его эквивалентную переформулировку Вебером: “Внутренняя психологическая ориентация на подобные регулятивные явления (обычай и привычка) содержит в себе самой очень заметные явления торможения, направленные против “инноваций”, и каждый может наблюдать этот факт когда угодно в своем повседневном опыте, когда убеждение утверждается тем самым в своем обязательном характере. Приняв во внимание эти соображения, мы должны задаться вопросом, как нечто новое может вообще появиться в этом мире, в своем существе ориентированном на то, что регулярно и эмпирически приемлемо.”[9] Однако Вебер не дает ответа на этот вопрос. Он пытается привлечь идею харизмы, по крайней мере, для “дорационалистической эпохи”: “Харизма – это великая революционная сила эпох, связанных с традицией. В отличие от также революционной власти “рацио”, которая действует либо непосредственно извне, меняя условия и проблемы жизни, а через это, опосредованно, позицию, занимаемую в отношении их, либо тоже через интеллектуализацию, харизма может состоять в трансформации изнутри. Порожденная потребностью и энтузиазмом, она означает общее изменение направления мнения и поступков, совершенно новую ориентацию всех точек зрения на все частные проявления жизни и на “мир”. В дорационалистические эпохи традиции и харизма вместе владели почти всей совокупностью ориентаций деятельности”.[10]
Конечно, Вебер искал путь к источнику социальных изменений, нарушающих рациональную логику движения от традиционности к современности. Но, даже учитывая это обстоятельство, мы не можем не заметить, что в объяснении Вебера харизма вторична. Она следует за ранее появившейся общественной “потребностью и энтузиазмом”. Но не дается объяснение причин появления этих потребностей и, в этом самое главное, объяснение возможности появления новых потребностей и возникновения энтузиазма. Не исключено, что ощущаемая исследователями несостоятельность такого ответа побуждала обходить этот вопрос стороной. Поэтому в более поздней литературе мне не удалось найти его обсуждение. Даже Штомпка в своем фундаментальном труде, посвященном социальным изменениям, не рассматривает этот вопрос[11]. Возможно, он кажется слишком тривиальным, вроде вопроса: “Откуда коробок спичек знает, что падать надо вниз?”. Но наивные вопросы часто бывают плодотворны. Я не разделяю диагноза Будона, вынесенного им современным теориям социальных изменений: “Состояние краха – вот наиболее распространенное, разделяемое сегодня очень многими мнение по поводу этих теорий”[12]. Этот диагноз в равной степени применим к любым социальным теориям, и в равной степени не применим ко всем ним. Их проблема не в том, верны они, или нет, а в том, что в них не выделены сферы применимости. Поэтому в данной статье не ставится задача создания альтернативной теории социальных изменений. Я рассматриваю приведенные здесь построения только как лепку небольшого кирпича, который может впоследствии лечь в здание какой-либо теории.
Моя задача – ответить на вопросы, поставленные выше.
Для этого предлагается обсудить следующую гипотезу. Любой социальный порядок содержит встроенные в него подструктуры (роли, отношения, институты и т.п.), которые берут на себя функцию расшатывания и преодоления действующего социального порядка. Причем эти подструктуры существуют в обобщенном смысле легитимно, они охраняются обществом наряду с другими компонентами социального порядка, в том числе – отвечающими за его стабильность.
Иными словами, любой социальный порядок содержит в себе зародыш своего отрицания. Будем использовать термин “преодоление структуры” для той роли (функции, миссии), которая осуществляется этими подструктурами в рамках социального порядка. Для обоснования этой гипотезы ниже будут рассмотрены некоторые примеры реализации указанной функции. Можно говорить, что преодоление структуры противостоит структуре, как беспорядок противопоставляется порядку, случайность – закономерности и предсказуемости. Тема беспорядка постоянно анализировалась классиками социологии – Марксом, Зиммелем, Дюркгеймом, Вебером, цитировавшимися выше Эйзеншдадтом и Будоном. Ниже наш анализ будет дополнен следующей идеей, вытекающей из сформулированной выше гипотезы: генерация беспорядка (хаоса, случайности) может быть встроена в социальную структуру, институализирована ею как средство повышения ее эффективности, адаптивности и возможности модернизации.
Трикстер и другие
 Мы начнем наш анализ с индейского мифа о Трикстере, описанного Полем Радиным[13], который так занимал Юма, вызывая его недоумение по поводу самого возникновения подобного мифа[14]. В начале повествования Трикстер (Вакджункага) – “рядовой вождь”, который вдруг начинает нарушать все возможные табу. Например, после ритуала подготовки к выходу на тропу войны идет совокупляться с женщиной. О тяжести нарушения табу могут дать представление следующие слова Бородая: “В первобытном обществе человек, преступивший табу, не ждет физического воздействия со стороны; он в судорогах умирает сам, или, по крайней мере, тяжело заболевает. Степень страдания здесь прямо пропорциональна силе и важности табу”.[15]
Мы начнем наш анализ с индейского мифа о Трикстере, описанного Полем Радиным[13], который так занимал Юма, вызывая его недоумение по поводу самого возникновения подобного мифа[14]. В начале повествования Трикстер (Вакджункага) – “рядовой вождь”, который вдруг начинает нарушать все возможные табу. Например, после ритуала подготовки к выходу на тропу войны идет совокупляться с женщиной. О тяжести нарушения табу могут дать представление следующие слова Бородая: “В первобытном обществе человек, преступивший табу, не ждет физического воздействия со стороны; он в судорогах умирает сам, или, по крайней мере, тяжело заболевает. Степень страдания здесь прямо пропорциональна силе и важности табу”.[15]
Все нарушив и порвав с племенем, Трикстер в одиночестве отправляется путешествовать. С ним, с его телом и отдельными частями последнего происходят всевозможные приключения и метаморфозы. Большинство сюжетов сопряжено с десакрализацией и пародированием (я специально подчеркиваю это слово, которое снова возникнет ниже) социальных установлений. Например, Трикстер во время своих путешествий, став на время женщиной, проявляет инициативу и становится женой сына вождя другого племени. В конце повествования Трикстер побеждает злых духов, вредящих людям, и становится героем. Юм более других интерпретаторов сосредотачивается на психологических особенностях Трикстера. “…Трикстер, очевидно, представляет исчезающий уровень сознания, все более и более неспособный к самоутверждению в какой бы то ни было форме”.[16] “Трикстер есть коллективный теневой образ, воплощение всех низших черт индивидуальных характеров”.[17] Сомнительно. А где жадность, вероломство, предательство и многое другое? Нет, миф о Трикстере, конечно, не может служить энциклопедий пороков. Кроме того, Юнг, как и почти все комментаторы, осторожно обходит вниманием в своем анализе фундаментальный факт – превращение Трикстера в культурного героя.
Как же так: спаситель человечества и склад пороков? Кереньи, уподобляющий Трикстера Гермесу и Ходже Насреддину, указывает[18], что главное в природе Трикстера то, что он “… дух беспорядка, противник границ… Беспорядок – неотъемлемая часть жизни, а Трикстер – воплощенный дух этого беспорядка.” Но Кереньи переводит функцию этого беспорядка с социального уровня на индивидуальный: “… ничто не раскрывает смысл всеохватного социального порядка так отчетливо, как религиозное признание того, что избегает этот порядок – персонажа, выражающего и воплощающего жизнь тела, ничему не подчиняющегося полностью, управляемого похотью и голодом, вечно навлекающего на себя боль и страдания (Кереньи забывает о крайне важном – насмешках [Авт.]), хитрого и вместе с тем неразумного в своих поступках.” И здесь же: “Его функцией в архаическом обществе вернее, функцией мифологических сюжетов о нем повествующих, является внесение беспорядка в порядок, и таким образом, создание целого, включение в рамки дозволенного опыта недозволенного.” Из сказанного Кереньи следует, что он имеет в виду индивидуальный опыт. Не хватает еще одного шага – ответа на вопрос о том, зачем нужен индивидуальный опыт беспорядка, и зачем (важное замечание Кереньи!) нужно его религиозное признание.
Я не буду подробно останавливаться на определенной натяжке, связанной с приписыванием архаичным мифам и обрядам религиозного смысла. Для этого столько же оснований, сколько для приписывания им, например, научного смысла. Важно другое, что необходимо подчеркнуть для моих последующих рассуждений. Я имею в виду тезис Кереньи о внесении беспорядка в социальный порядок. Кереньи, указывая на важность этой функции, протаптывает тропинку от Трикстера к плутовскому роману, от Рабле до Гете[19]. Отождествляя функции внесения беспорядка и “разрушения границ” (в социальном порядке), комментатор проводит параллель между мифом о Трикстере и древнегреческими обрядами и искусством того же времени. Открыватель мифа Поль Радин совершенно обоснованно подчеркивает завязку его сюжета как десоциализацию персонажа[20]. С ним солидаризуется и Мэри Дуглас[21]. Но прежде всего она обращает внимание на социальную роль мифа о Трикстере. Она усматривает в нем отражение процесса дифференциации социального порядка. Более всего она говорит о процессе изменения восприятия окружающего мира: его деперсонификацию, осознание своих возможностей и ограничений, избавление от эгоцентричного “докоперинковского” восприятия миропорядка. Приводя примеры, Дуглас концентрируется на морфологической изменчивости, психической многомерности и т.п. В этом, конечно, больше индивидуального, как у Юнга, нежели социального.
Бесспорно, Трикстер крайне интересен индивидуальными особенностями. По сути, данный миф – это развернутая метафора беспомощного человека, столкнувшегося с грудой препятствий. Их преодолевает тот, кто в состоянии нарушить социальный порядок, переосознать и переделать себя, кто может с иронией посмотреть не только на окружающий мир, но и на себя. Это не миф о “рождении мира”, как его иногда интерпретируют. Ведь надо учесть эксплицированный контекст мифа – социальный порядок уже существует, он задан, существуют традиции и табу, герой занимает в этом мире совершенно определенное место. Но этот социальный порядок не совершенен (что олицетворяют злые духи). Перечисленное характерно не только для мифов виннебаго, но и для близких им племен. Следовательно, здесь типизируются некоторые общие проблемы небольших сообществ, имеющих сходную социальную организацию. Это миф о преодолении и связанных с этим метаморфозах, как человека, так и социального порядка.
В этом заключаются крайне важные и характерные социальные особенности мифа. Он с самого своего начала наотмашь бьет по двум основам социального порядка племени: по социальной иерархии и запретам. Он объясняет: могут существовать такие цели, ради которых допустимо отрицание и преодоление социального порядка, его жесткой структуры. Другая важная особенность мифа о Трикстере – это ненавязчивый гимн случайности. Ни один эксперимент Трикстера над собой не мотивирован и не требует мотивации. Именно случайность выступает здесь как универсальный механизм поиска нового порядка. Не фиксируя это обстоятельство в связи с данным мифом, Дуглас дальше сама воспевает случайность: “… подразумевается, что беспорядок (читай – случайность, Автор) неограничен, в нем не реализован ни один образец, но его потенциал выработки образцов неопределенно велик. Поэтому, хотя мы и стремимся к порядку, мы не можем просто осудить беспорядок. Мы понимаем, что он разрушителен для существующих образцов, но мы также признаем его потенциал. Он символизирует одновременно и опасность, и силу.”[22]
Характерно, что мифы, содержащие эксперименты со случайностью форм и смыслов, немотивированных метаморфоз, сопряженных с поиском порядка, описаны и Леви-Строссом.[23] Итак, мы имеем миф и персонаж, которые воспевают случайность и беспорядок как ценности, которые должны охраняться, поскольку потенциально полезны. Имеет смысл задуматься о том, что миф – это институализированная форма социально одобренного знания. Институализированная в том смысле, что это знание передается в слабо изменяемом виде от поколения к поколению через специально предназначенных для его сохранения людей. Последние пересказывают мифы подрастающему поколению в процессе его социализации или взрослым в “воспитательных” или мобилизующих целях. Т.е. миф – это институционально защищенная информация. Возникает естественный вопрос: зачем племени сохранять мифы, содержание которых расшатывает основы социального порядка? Мне представляется, что логичный ответ на этот вопрос дает выдвинутая в начале статьи гипотеза. Чтобы подтвердить возможность такого объяснения мифа о Трикстере, было бы полезно найти аналогичные наблюдения исследователей над социальным порядком. Конечно, прежде всего приходит в голову введенная Тойнби модель “Уход-и-Возврат”[24]. Тойнби приводит множество исторических примеров того, как герой, перед тем как совершить или возглавить некоторый исторический рывок или преобразование, уходит из привычного социального окружения, порывает с ним (вот только часть списка: Апостол Павел, Будда, Игнаций Лойола, Конфуций). Здесь же напрашивается сравнение с сорокадневным уходом Иисуса Христа в пустыню.
Интересно, что этот величественный сюжет удивительным образом перекликается с этнографическим материалом. Тэрнер пишет о сложных инициационных обрядах “… с длительными периодами одиночества в лесу, где неофиты постигают эзотерические значения и где с ними часто находятся танцовщики в масках, олицетворяющие души предков или богов”[25]. Это свидетельство крайне многозначительно.
- Во-первых, мы видим интересную перекличку описанного Тэрнером обряда инициации с мифом о Трикстере. Его блуждания по лесу также сопровождались спутниками-зверями, которые вполне могут рассматриваться как маски.
- Во-вторых, сюжет о скитаниях Трикстера может иметь своим прототипом привычный обряд инициации.
- В-третьих, мы видим в обряде инициации модель Тойнби “Уход-и-Возврат”, что естественно, поскольку инициация – суть преодоление кризиса перехода в другое социальное качество.
- В-четвертых, превращение потенциального героя в героя реального – это тоже своеобразная инициация. Обе инициации, как мы видим, происходят по общей поведенческой модели. И возможно, что эта вторая инициация копирует опыт и ритуал первой.
- В пятых, собственно инициация сопровождается разрывом с социальным порядком. И, наконец, в-шестых, этот разрыв с социальным порядком институционально защищен тем, что является частью ритуала. Мы видим пример того, как разрыв с социальным порядком может защищаться этим социальным порядком.
Теперь мы пойдем от Трикстера по трем тропам: к дуракам, шутам и юродивым, как трем ипостасям героя мифа.
Деревенские дураки и шуты
Если мои соотечественники думают, что использование дураков для решения нетривиальных проблем привилегия исключительно нашей родины, то это будет очередным свидетельством мании величия. В центральной части Танзании есть, к примеру, племя эхазну. Мэри Дуглас (со ссылкой на Виржинию Эддам) рассказывает об использовании этим племенем деревенских дурачков в практических целях[26]. “Если в ожидаемое время дождь не случается, эханзу подозревают в этом колдовское вмешательство. Чтобы нейтрализовать колдовство, они берут дурачка и посылают его бродить в лесных зарослях. В процессе своих скитаний по лесу он бессознательно разрушает действие колдовских чар.”
Крайне интересно, как Дуглас интерпретирует этот и подобные ему примеры. “В подобных представлениях содержится двойное обыгрывание неартикулированности. Во-первых, это проникновение в неупорядоченные области сознания. Во-вторых, это выход за рамки социального.” “Социального” в данном контексте – это значит выход за рамки действующего социального порядка. Нетрудно видеть, как это перекликается с сюжетом о Трикстере, обрядами инициации и, как мы увидим ниже, “методом” юродивых. В этом можно усмотреть также примитивный вариант реализации модели “Уход-и-Возврат” для решения значимой для племени проблемы. Важно также, что мы снова сталкиваемся с ролью и функцией преодоления социального порядка, освященной и защищенной ритуалом.
Иван Прыжов указывает на то, что русские общины тоже защищали своих дураков. Когда московский дурак Иван Яковлевич ушел в лес, окрестные крестьяне построили ему избушку[27]. Дураки были источником благодати и успеха. О Данилушке Коломенском Прыжов повествует так: “Вот проходит мимо Данилушка и берет у кого-нибудь калач, — и тот купец, у которого был взят калач, считается счастливым, и покупатели рекомендуют его друг другу, говоря, что “нельзя не взять калача – сам Данилушка взял – стало быть, калачи хороши, да и продает их человек благочестивый, потому что к неблагочестивому Данилушка не пойдет”.[28]
Будучи математиком по образованию, не могу удержаться от искушения дать очередное определение: шут при государе – это приватизированный деревенский дурак. Тем самым выстраивается тропка к следующему сюжету. Замечательный русский актер Евгений Весник рассказывал в одной телепередаче про известного русского юмориста Смирнова-Сокольского. Тот в конце 30-х годов (XX века) во время конферанса на концерте прилюдно рассказал следующий анекдот: “– Как жизнь? – Да как в трамвае. Половина сидит, половина трясется.” В те времена этого было достаточно, чтобы мгновенно оказаться в застенках ГПУ. Со Смирновым-Сокольским это не произошло, что и стало предметом обсуждения с младшим коллегой. Мэтр рассказал следующее. Он входил в круг “придворных” работников искусств, которых время от времени приглашали на приемы в Кремль. На одном из них Сталин, указав по своей привычке пальцем на Смирнова-Сокольского, громко сказал: “Вот мой шут!”. Именно после этого Смирнов-Сокольский настолько осмелел, что стал публично рассказывать антирежимные анекдоты, не опасаясь репрессий. Этот пример характерен применением правил игры пришедших, фактически, из глубины столетий, но настолько укорененных в европейской культуре, что для обеих сторон в данной ситуации распределение ролей было непререкаемо: один мог говорить все, что угодно; другой удерживался от санкций. Как пишет В.П.Даркевич: “Под защитой дурацкого колпака смеховое слово и поведение пользовались признанными привилегиями.[29]”
Следует помнить, что двор короля или принца по своему первоначальному предназначению был чем-то вроде штаба для решения управленческих задач в политической, военной, хозяйственной сферах[30]. Институализация этих функций при доминировании интересов и прав верховного принципала формировала двор в его более позднем виде: с жесткой иерархией, распределением ролей, церемониалом и т.п. Но этот же процесс снижал возможную эффективность управленческих решений, например, из-за сложности и опасности оспаривания решений или аргументов принципала. Роль шута, расшатывающего жесткую структуру двора, показывала возможность оспаривания. Нередко сам шут выступал не только в качестве критика принципала, но и в роли одного из высокопоставленных “штабных работников”. Свидетельство тому приводит Хейзинга: “Один из поэтов XV в. порицает князей за то, что они возводят шутов в ранг придворных советников и министров, подобно тому как это произошло с Coquinet le fou de Bourgogne [Кокине, дурнем Бургундским]”[31].
В целом, придворные шуты незаслуженно мало отображены в научной литературе. Единственная найденная мной книга Сандры Биллингтон “Социальная история дураков”[32]посвящена шутам и шутовству как специфической разновидности искусства. Но даже в ней упоминается Уилл Соммерс – шут Генриха VIII. Его любили люди за то, что он заступался за бедных, что, как известно, не являлось в те времена принятой нормой поведения. С большим удовольствием описывают шутов романисты. У Рабле мы обнаруживаем устойчивую сюжетную линию использования шутов (синонимично в тексте – дураков, юродивых) в качестве консультантов. Вот что говорит по этому поводу Пантагрюэль в одном из эпизодов: “Послушайте. Я часто слышал простонародную поговорку о том, что “иной дурак умника научит”. Так как вас не удовлетворяют ответы умных людей, посоветуйтесь с каким-нибудь дураком. Может случиться, что после такого разговора вы будете удовлетворены и довольны. Ведь вы сами знаете, что советы и предсказания юродивых спасали князей, королей и целые государства, помогали выигрывать битвы, разрешали великие сомнения. Вряд ли нужно приводить примеры.”[33]
Александр Дюма делает шута французского короля Генриха III Шико одним из главных действующих лиц исторической драмы “Графиня де Монсоро”. Шико там – единственный внятный персонаж, фактически творящий историю. Между тем, если обратиться к монографической литературе, то Шико в ней почти не виден. В толстенной книге Шевалье “Генрих III: шекспировский король” Шико не упоминается вовсе[34]. В другой монографии, много меньшей – “Генрих III” Филиппа Эрланже – Шико упоминается трижды: дважды мимоходом, но один раз весьма существенно. Цитируется фрагмент переписки королевского шута со своим государем по поводу противостояния с Лигой. В письме никаких хохм, только политические рекомендации. Итак, с одной стороны мы видим признаваемое естественным участие шутов в государственных делах, а с другой – полное игнорирование этой роли (у Шевалье, как и у многих других). Я больше верю Дюма. Чтобы он ни выдумывал, он рассчитывал на то, что читатели поверят его описанию важной исторической миссии шута Шико. И этот расчет романиста, и этот отклик читателей – самые убедительные свидетельства укорененности представлений о социальной роли шутов. Даркевич в связи с этим отмечает: “Концепции мира упорядоченного и рационального шут противопоставлял свое видение мира – хаотичного и абсурдного[35]”. Мы снова видим институционализацию беспорядка и расшатывания социального порядка.
Пример другой институализации функций шутов дает история средневековой Франции. Виоле-ле-Дюк[36] рассказывает, что шуты (fous) в некоторых городах Франции объединялись в цеха[37], как и прочие ремесленники. (Любопытно, что Костомаров также упоминает о цеховой организации скоморохов.[38]) Ремесло шутов состояло в организации регулярных праздников-маскарадов. Маскарады имели свою внутреннюю структуру социальной иерархии. Светская и церковная власть на время маскарадов взаимодействовала с этой структурой. Но самое главное и всеобщее состояло в том, что маскарадные персонажи имели право высмеивать и критиковать все и вся в самых различных формах – от пародирования и издевательств до показательных судебных процессов, устраиваемых карнавальным “судом”. Мишенью становилось все, что угодно – от выходок глупых и спесивых вельмож до последних указов о дополнительных налогах[39]. Кульминацией праздника было избрание “короля дураков” из числа глупцов и уродов.
А вот как характеризует эти празднества М.М.Бахтин: “Карнавал торжествовал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов. Это был подлинный праздник времени, праздник становления, смен и обновлений. Он был враждебен всякому увековечению, завершению и концу. Он смотрел в незавершимое будущее.”[40] Ну разве это не гимн случайности!?
Приведенные свидетельства интересны не самим фактом распространенности подобных карнавалов, не той критикой властей и карнавальной пародией (вот, снова появляется это важное слово) на власть, которыми они сопровождались, а тем, что эти “мероприятия” были институализированы наряду с производством башмаков, украшений и выпечкой хлеба. Следовательно, мы снова имеем пример того, что можно интерпретировать как институциональную защиту функции преодоления структуры. Средневековые праздники дураков имеют глубочайшие исторические корни. Я имею в виду праздники античных времен, в течение которых происходило взламывание действующего социального прядка. Вспоминая Сатурналии, обычно останавливаются на их оргаистической стороне. Между тем гораздо интереснее было другое, о чем напоминает Фрезэр: “Однако самой замечательной чертой этого праздника – она-то больше всего поражала воображение древних – была свобода, дававшаяся в такое время рабам. На время Сатурналий различие между господами и рабами как бы упразднялось – раб получал возможность поносить своего господина, напиваться, подобно свободным, сидеть с ними за одним столом. Причем его нельзя было даже словесно упрекнуть за проступки, за которые он в любое другое время был бы наказан побоями, тюрьмой или казнен. Более того, господа менялись местами со своими рабами и при служивали им за столом… Эта инверсия ролей заходила так далеко, что каждый дом на время превращался во что-то вроде микрогосударства, в котором все высшие государственные посты занимали рабы – они отдавали приказания, устанавливали законы, как если бы были консулами, преторами или судьями. Бледным отражением власти, которой на время Сатурналий наделялись рабы, было избрание при помощи жребия лжецаря, в котором участвовали свободные граждане. Лицо, на которое падал жребий, получало царский титул и отдавало своим подданным приказания шутливого и нелепого свойства.”[41]
Я позволил себе столь обильное цитирование, чтобы читатель сам увидел, сколь много общего у праздников дураков и Сатурналий. Но и последние имеют своих предшественников. Тот же Фрезэр позволяет нам обнаружить сходные “мероприятия” в древнем Вавилоне: “В Вавилоне ежегодно справлялся праздник Закеев. Начинался он шестнадцатого числа месяца Лус и продолжался пять дней. На это время господа и слуги менялись местами: слуги отдавали приказания, а господа их выполняли. Осужденного на смерть преступника обряжали в царские одежды и сажали на трон: ему позволяли отдавать любые распоряжения, есть и пить за царским столом и сожительствовать с наложницами царя.”[42] Праздники дураков, Сатурналии, праздник Закеев имеют две общие важнейшие черты. Первая – все они посвящены взламыванию действующего социального порядка (вместе с пародированием и высмеиванием). Даркевич отмечает: “Главная идея праздника шутов и вообще средневекового карнавала – инверсия общественного статуса[43]”. Вторая – защита традиции взламывания социального порядка с помощью института ежегодного праздника. Некоторые исследователи обосновывают подобные празднования и обряды с помощью теории катарсиса: приписывая им функцию “выпускания социального пара”, разрядки разрушительных инстинктов, изначально присущих человеку, снижения его агрессивности и девиантности. Подобной точки зрения придерживался А.Я.Гуревич, который считал праздники дураков институтами, поддерживаемыми действующим социальным порядком, но отводил им роль разрядки, разгрузки[44]. Возможно, подобные трактовки навеяны обоснованием, которое давали праздникам дураков образованные современники этих мероприятий. Циркулярное послание парижского факультета богословия от 12 марта 1444 г. с апологией (официальной защитой) праздника дураков гласит, что такие праздники необходимы, поскольку: “… глупость (шутовство), которая является нашей второй природой и кажется прирожденной человеку, могла бы хоть раз в году изжить себя. Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не пускать в них воздуха. Все мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению господу.”[45]
Мне подобные обоснования представляются как минимум неполными.
- Во-первых, нет оснований предполагать, что познания средневековых богословов в сфере физики виноделия много превосходили их проникновение в социальную природу современного им общества. А физические ошибки в данном тексте очевидны.
- Во-вторых, адресатом этого послания могли быть, скорее всего, духовные лица высокого ранга. Обычно, мотивируя что-либо, изощренные советники используют аргументы, близкие и желаемые господину, поскольку они могут на него повлиять, но не обязательно соответствующие природе вещей.
- В-третьих, данная аргументация плохо распространима на профессиональных шутов, проявляющих свою глупость каждодневно. Данное рассуждение должно было бы натолкнуть на мысль, что в дураках так много мудрости и благочестия, что их надо проветривать ежедневно.
- В-четвертых, современная социальная психология не подтверждает теорию катарсиса. Как пишет Аронсон, она скорее опровергается, нежели подтверждается строгими лабораторными экспериментами[46].
- И, в-пятых, осталось соображение, которое делает почти бессмысленным все мои предшествующие потрясания полемическим копьем. Я имею в виду тот банальный факт, что любые институции могут иметь более чем одно назначение, функцию.
Удивительное, возможно – косвенное, подтверждение роли шута в предлагаемой мной трактовке можно найти в обычной колоде игральных карт. Колода организована на основе крайне жесткого “социального порядка”. Все карты разбиты на четыре “государства” – масти. Внутри каждой масти карты упорядочены отношением доминирования. Но есть карта, которая “взрывает” этот социальный порядок – это джокер (шут в колпаке с бубенцами). Джокер, в разных играх, может притвориться любой картой, может доминировать над любой картой, он олицетворяет предельную социальную динамику и нарушение всех запретов.
Скоморохи и юродивые
Русские коллеги европейских шутов – скоморохи – не были столь институализированы как их западные собратья. А.С.Фомицын в своей книге “Скоморохи на Руси” отмечает: “Дурак (шут, скоморох – Автор), независимо от потешной роли своей, иной раз становился суровым и неумолимым обличителем лжи, коварства, лицемерия и всяких пороков, нередко только таким путем доходивших до ведения господина.”[47] Часто их юмор был бытовым, не поднимался выше пояса (что, впрочем, было присуще и Европе), и главное – скоморохи не пользовались институализированной поддержкой. Это касалось и т.н. “оседлых скоморохов”, которые пристраивались к княжеским или царским дворам, домам богатых и знатных бояр. Это были по большей части музыканты, но среди их песен были как “кривляния и бесстыдные песни”, так и “позоры”. Защита на них не очень распространялась, особенно на верху. Прямой юридический запрет относится к временам царя Алексея Михайловича – отца Петра Великого. Тем не менее, русские дураки выполняли свою “историческую миссию” наравне с европейскими шутами.
Вот как этот персонаж характеризовался Д.С.Лихачевым: “Что такое древнерусский дурак? Это часто человек очень умный, но делающий то, что не положено, нарушающий обычай, приличие, принятое поведение, обнажающий себя и мир от всех церемониальных форм, показывающий свою наготу и наготу мира, – разоблачитель и разоблачающийся одновременно, нарушитель знаковой системы, человек, ошибочно ею пользующийся.”[48]
Важно, что в трактовке Д.С.Лихачева лейтмотивом проходит пародийность смеховой культуры, носителями которой были дураки и скоморохи. Вот как он описывает их суть: “Смысл древнерусских пародий заключается в том, чтобы разрушить значение и упорядоченность знаков, обессмыслить их, дать им неожиданное и неупорядоченное значение, создать неупорядоченный мир (курсив мой — Сатаров), мир без системы, мир нелепый, дурацкий, — и сделать это по всем статьям и с наибольшей полнотой.”[49] Разрушение и дезорганизация значений – первый шаг на пути внесения беспорядка в социальный порядок, поскольку последний организован порядком универсальных смыслов. Хотя Д.С.Лихачев писал, что юродивые на Руси – это те же дураки[50], прямое отождествление было бы ошибочным. Как свидетельствует Отец И.Ковалевский[51], юродство было заимствовано не из Византии, а пришло обходным путем из Европы через Новгород. А.М.Панченко полагает, что юродство не было свойственно западной Европе[52]. Он обосновывает это “немалым удивлением” “иностранных путешественников”XVI-XVII вв. Но это удивление сопряжено с тем, что в Европе это явление уже сходило на нет. У нас же юродство скончалось только в начале XX в. подо льдом Невы. Пожалуй, свидетельства И.Ковалевского представляются весьма убедительными. Первый юродивый, причисленный к лику святых, Прокопий Устюжский, живший в XIV веке, был “от западных стран, от латинского языка, от немецкой земли”.[53] Есть свидетельства иностранного происхождения жившего в XVI веке Блаженного Иоанна Власатого Ростовского чудотворца.[54]
Вот некоторые примеры юродства на Западе: святая Ульфа (VIII в.), первые шаги Франциска Азисского (XII-XIII в.), блаженный Иоанн Коломбини (XIV в.), св. Филипп Нери (XVI в.).[55] Самое яркое по своей выразительности свидетельство, приводимое Ковалевским, цитируемые им стихи, написанные во второй половине XVII в. иезуитом Иосифом Сюрреном в Бордо: “Не должна моя песнь описывать Великую бездну, куда я сошел – Там нет ни дна, ни берега, И мало понятно я мог бы сказать, Вернувшись из того благого крушения. Я хочу говорить пред лицом королей, Хочу дикарем в этом мире казаться И презирать его точный закон. Хочу лишь безумию следовать Христа, в оный день на кресте Потерявшего вольно и честь вместе с жизнью, Отдавшего все, чтобы осталась любовь.”[56] Ковалевский справедливо замечает, что это могло бы быть написано Блаженным Василием в Москве в ХVIII в. или Блаженной Ксенией в Санкт-Петербурге в ХVII в. Но для нас в этом гимне юродства важно другое: Сюренн Бордосский хочет “дикарем в этом мире казаться и презирать его точный закон”. Это прямо трикстеровский мотив разрыва с традиционным социальным порядком.
Посмотрим, как он воплощался на Руси. Великий русский православный философ и историк Георгий Федотов так описывает стратегию русского юродства: “1. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. 2. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру (1 Коринфянам, I-IV). 3. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой Духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством.”[57] Здесь признаки разрыва с социальным порядком явно не обозначены. Однако миновать этот мотив невозможно: “Церковь передает государственное строительство всецело царю. Но неправда, которая торжествует в мире и в государстве, требует коррективы христианской совести. И эта совесть выносит свой суд тем свободнее и авторитетнее, чем меньше она связана с миром, чем радикальнее отрицает мир.”[58]
Ясно, что в терминологии Г.Федотова отрицание мира тождественно отрицанию социального порядка, связующего этот мир. Это подтверждается другим высказыванием философа: “Юрод” и “похаб” – эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси, – по-видимому, выражают две стороны надругания над “нормальной” человеческой природой: рациональной и моральной.”[59] Более отчетливо социальная функция юродства проявляется в цитировавшейся выше работе Ковалевского (“Живя среди общества, юродивые сознательно исключали себя из него”[60]). Разрыв с социальным порядком проявляется, прежде всего, во внешней стороне поведения юродивых: “Они жили, пренебрегая общепринятыми обычаями мира, не сообразуясь с законами гражданского общества, и в некоторых случаях даже постановления Церкви не могли привести их (юродивых) к обыкновенному образу жизни.”[61] “…некоторые юродивые считали себя свободными даже от самых элементарных обязательств по отношению к человеческому обществу, к его приличиям и нравам, чтобы тем вернее бросать ему свой вызов. Не только они предъявляли как доказательства своей отрешенности почти полную наготу и физическую грязь, но даже и видимость безнравственности (и это было даже с такими людьми, святость которых была официально подтверждена канонизацией). Юродивый Христа ради ничуть не ищет ни человеческого уважения, ни человеческой любви; он даже не хочет оставить среди людей добрую память о себе…”[62] Пример Симеона Юродивого, ходившего по базару нагим, не является экзотическим исключением.
Но выше и важнее поведенческого противопоставления был разрыв с общепринятым представлением об уме, рассудке, рациональности. Юродивые сознательно разрушали “благолепное” представление современников о себе, предпочитая, чтобы их рассматривали как бесноватых, если не безумных. Это лишний раз подтверждает их функциональную интенцию выхода за традиционный социальный порядок, ибо роль “святых” была во многом традиционна, а потому противоречила мисси юродства. “Когда люди начинали почитать Симеона святым, он делал что-нибудь такое, чтобы показать себя безумным, а не святым.”[63] Здесь налицо использование преимущества роли, допускающей шок, взрыв, разрушение, разрыв – разрыв с социальным порядком. С позиций своей роли юродивые могли выполнять функции критики сильных мира сего, что было недоступно другим.
Историки любят описывать столкновение Ивана Грозного с псковским юродивым Николаем Салосом, спасшим город от тирана, предложив ему кусок сырого мяса. Тот отреагировал: “Я христианин, и не ем мясы в Великий пост”. На это юродивый ответил: “Ты делаешь хуже: питаешься человеческою плотию и кровию, забывая не только пост, но и Бога.” Царь с войском удалился. Юродивые на Руси пользовались огромным уважением и защитой. Например, Архимандрит Павел Сирийский описывает, как во время обеда у Патриарха Никона подле последнего сидел юродивый Киприан. Не случайно многие юродивые причислялись православной Церковью к лику святых. Немало свидетельств покровительства юродивым со стороны богатых вельмож. Нередко юродивые без приглашения появлялись на высокопоставленных свадьбах.[64] Некоторых отпрысков царской фамилии называли в честь юродивых, как, например, дочь Александра III Ксению.[65] Здесь можно усмотреть определенную “показуху” или моду. Однако даже это обстоятельство подтверждает факт социального признания и защиты явной социальной аномалии. Айзеншдадт[66]рассматривает секты и ереси, сюда же могут быть отнесены и юродивые, как носителей цивилизационных изменений. Подобные акторы воздействуют на представление о метафизическом порядке, способствуя, тем самым, изменениям в направлениях активности человека в мире. Но для нас важнее, что в феномене юродства мы снова видим те же два признака: расшатывание социального порядка и защиту социальным порядком этой крамольной деятельности. Тем самым мы снова убеждаемся в том, что подготовка социального порядка к его возможным изменениям институционально встроена в социальный порядок.
Некоторые аналогии
Итак, мы видим, как в ряде общепринятых и универсально распространенных ролей и социальных установлений усматривается реализация функции преодоления структуры. Она выступает в качестве средства, которое не позволяет замерзнуть и стать неподвижной решетке социального порядка. Она расшатывает социальный порядок, сохраняя возможность социальных изменений, когда это становится актуальным. Действующий социальный порядок охраняет эти роли и социальные установления, будь то шуты, юродивые или праздники нарушения социального порядка. Коль скоро это верно, то следы этой закономерности должны обнаруживаться в изысканиях других авторов. Частично мы уже видели это выше. Однако на более глубоком концептуальном уровне социальные функции, выполняемые перечисленными выше персонажами, перекликаются с идеей лиминальности, активно эксплуатировавшейся В.Тэрнером.
Лиминальность по Тэрнеру – свойство определенных социальных ролей или групп, объединяющее пограничность, приниженность, но одновременно сакральность. Лиминальность противостоит структуре и в этом смысле она корреспондируется с функцией преодоления структуры. “Лиминальные существа ни здесь ни там, ни то ни се, они – в промежутке между положениями, предписанными и распределенными законом, обычаем, условностями и церемониалом. Поэтому их двусмысленные и неопределенные свойства выражаются большим разнообразием символов в многочисленных обществах, ритуализирующих социальные и культурные переходы.”[67]
Тэрнер приводит следующий список лиминальных ролей и группп: “… неофиты в лиминальной фазе ритуала, покоренные автохтоны, малые народы, придворные шуты, блаженные нищие, добрые самаритяне, милленаристские движения, “бездельники дхармы”, матрилатеральность в патрилинейных системах, патрилатеральность в матрилинейных системах и монашеские ордены”.[68] О шутах Тэрнер говорит подробнее, обильно ссылаясь на книгу М. Глюкмана[69]. “Придворный шут выступал привилегированным арбитром в делах нравственности, и ему было дано право насмехаться над королем и придворными или владельцами замков.” […] “В системе, где другим было трудно осуждать главу политической единицы, мы находим институализированного шутника, функционирующего на самой вершине этой единицы… шутника, способного выразить чувство оскорбленной нравственности.” Важно подчеркнуть здесь то, что Глюкман говорит об институализации роли шута. Глюкман упоминает о том, что шуты были и у многих африканских монархов. Аналогичные лиминальные роли критиков были, например, у королевских барабанщиков на паромах через Замбези. Они могли позволить себе критику в форме выбрасывания за борт высокопоставленных сановников. Зафиксировав лиминальные свойства ролей и групп, Тэрнер переходит к ритуалам. В частности, приводится описанный в XVIII веке Босманом церемониал апо у северных ашанти из Ганы (8 дней перед Новым годом): “…это восьмидневный Праздник, сопровождаемый всеми видами Пения, Прыжков, Плясок, Радости и Веселья; в это время дозволена самая разнузданная вольность, а Скандал ценится настолько высоко, что можно свободно говорить обо всех Пороках, Подлостях и Надувательствах как верхов, так и низов без какого либо наказания и даже помехи”.[70] Один из жрецов племени так трактовал суть мероприятия: душа (сунсум) заболевает вместе с телом от накапливающихся обид и унижений. Ее надо освободить, высказав кому угодно из оскорбителей свои претензии в предельно грубой форме[71]. Цитируемый жрец повторяет аргументы свих коллег – парижских клириков, прибегая к идее катарсиса. Но, как и выше, важно, что во время этого праздника происходило разрушение традиционной социальной структуры. (“Уравнивание – одна из основных функций обряда апо.”[72])
Значит, независимо от мотивировок, праздник закреплял следующую идею: есть цели, ради которых можно пренебречь социальным порядком. Это та же идея, что и в случае с Трикстером. Тэрнер описывает и другие ритуалы, сопровождающиеся временным разрушением социального порядка. В некоторых из них, к примеру, меняются местами женщины и мужчины, а последние обычно занимают в племени “руководящие посты”. Такие ритуалы часто связаны с необходимостью отведения каких-либо угроз: засухи, саранчи и т.п. Много общих черт с праздником дураков имеет и праздник холи в деревни Кишан Гори в Индии.[73]
Опираясь на свойство лиминальности, Тэрнер вводит понятие коммунитас, как некоторое состояние социальных общностей, противопоставленное их существованию в рамках жесткой структуры. Четкого определения не дается. Коммунитас обладает экзистенциальностью и потенциальностью, “она часто находится в сослагательном наклонении”[74]. “Коммунитас прорывается через щели структуры в ламинальность, через ее окраины – в маргинальность, из ее низов – в приниженность”. […]“Почти всюду к ней относятся как к сакральному или “блаженному”, вероятно, потому, что она нарушает или отменяет нормы, управляющие структурными и институализированными отношениями, и сопровождается переживаниями небывалой силы”.[75] Наконец, автор рисует картину социальной динамики как колебательного процесса смены структуры на коммунитас и обратно[76]. Создается впечатление, что в предлагаемой трактовке коммунитас спутаны состояние (организация) общности с ее свойствами и функциями. Из слов автора следует, что коммунитас единовременно сосуществует со структурой. Но что противостоит структуре и порядку? Случайность, хаос, беспорядок. Значит коммунитас в одной из своих ипостасей может рассматриваться как институт (генератор) случайности. Вот что характерно. “Переживания небывалой силы”, сопровождающие состояние коммунитас, сопряжены с нерегулярными, случайными, с точки зрения данной культуры, явлениями. Это могут быть засуха; нашествие саранчи; комета или солнечное затмение, покуда их не научатся предсказывать; и т.п. То, что научаются предсказывать, перестает быть неожиданным, а потому сакральным. Не случайно случайное часто относится к сфере предзнаменований, и к тому же – неприятных.
Некоторые из описываемых Тэрнером ритуалов с элементами разрушения действующей структуры противостоят именно случайным, неприятным, сакральным событиям. Одной случайности противопоставляется другая случайность (как в теории игр!). Коммунитас производит впечатление артефакта. На самом деле, уместно говорить о смене одной структуры другой через фазу роста энтропии, чему и способствуют лиминальные роли, явления, институты, в конце концов. Не удивительно, что, не дав строгого определения и подводя под отсутствующее определение разные примеры общностей, автор сам вынужден признавать недолговечность состояния коммунитас, вводя понятие “нормативной коммунитас”. Идея коммунитас удобна для описания сути маргинальных общностей, но в приложении к социальным изменениям она может рассматриваться только как метафора временного состояния общностей. Вместе с тем, понятие лиминальности, несомненно, плодотворно. Не случайно, близкие по смыслу конструкции появляются независимым образом у других авторов.
Лиминальность (не называемая напрямую, конечно) проявляется в описаниях шутов и дураков у М.М.Бахтина[77]; она выплывает у Дж.Хоманса в описании элементарного социального поведения[78]; возникает в смеховом мире антикультуры у Д.С.Лихачева (“В этом изнаночном, перевернутом мире человек изымается из всех стабильных форм его окружения, переносится в подчеркнуто нереальную среду.”[79]). Близкие идеи можно найти у российских исследователей С.Копеляна и В.Лившица. В данном случае мне снова трудно удержаться от точного цитирования, уж больно излагаемые этими авторами мысли перекликаются с идеями, развиваемыми в данной статье: “В единой человеческой цивилизации, на наш взгляд, самой природой “встроен”, “вмонтирован” механизм “помешательства”, “сумасшествия” отдельных частей общества. Это может быть понято как отклонение от нормы, девиантное развитие, поведение, попытка реализации иного, лежащего вне основного пути развития общества социального проекта, социальной возможности… Болезнь эта неприятна, но, по-видимому, необходима для развития цивилизации в целом.”[80] Наконец, понятия коммунитас и лиминальности, вместе с близкими к ним конструкциями, включаются в другое важное обобщение, к которому мы перейдем ниже.
Некоторые обобщения
Обсуждавшиеся выше примеры могут быть обобщены следующим образом. Социальные структуры обладают одновременно двумя свойствами: 1) стремлением к порядку и стабильности; 2) стремлением беспорядку и неустойчивости. Сочетание двух этих противоречивых начал обеспечивает адаптивность социального порядка, который, что важно, институализирует и, тем самым, защищает оба свойства. Но сама по себе идея подобной дуальности не нова. Только в охваченной данной статьей литературе мы наблюдаем серию таких противопоставлений. В.Тэрнер жесткую социальную структуру противопоставляет коммунитас. Дж.Хоманс противопоставляет институты элементарному социальному поведению. М.М.Бахтин противопоставляет миру официальному мир смеха. Д.С.Лихачев с А.М.Панченко противопоставляют официальной культуре смеховую антикультуру. Однако есть основания предполагать, что все эти противопоставления являются частными проявлениями другого универсального противопоставления. Обычно мы составляем для этого пары вроде таких: порядок и беспорядок, организованность и хаос; детерминированность и случайность. Посмотрим, как реализуется подобный дуализм на паре примеров, иллюстрирующих сосуществование и взаимодействие элементов пары. М.М.Бахтин пишет, как упоминалось выше, о мире смеха, как о втором мире, в котором жили в средневековье наряду с миром официальным. “Это – особого рода двумирность (разрядка Бахтина), без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно поняты. Игнорирование или недооценка смеющегося народного средневековья искажает картину и всего последующего исторического развития европейской культуры.”[81]
На самом деле смех здесь – всего лишь одна из форм, которую обретает беспорядок, чтобы институализироваться в мире порядка (позже выяснится, что смех может быть заменен красотой) и изнутри расшатать его. Другие формы “проникновения”, как мы видели – религиозное исступление, блаженность, глупость. Далее: “Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни существовал уже на самых ранних стадиях развития культуры. В фольклере первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество (“ритуальный смех”), рядом с серьезными мифами – мифы смеховые и бранные …”[82] Опять обсуждавшийся выше дуализм; но по Тэрнеру – это дуализм порядка и коммунитас. И здесь, как уже отмечалось, вместе со смехом выступает и страх, как стимул, запускающий механизм случайного.
Теперь рассмотрим другой исторический пример, приводимый Д.С.Лихачевым: “Грозный был своеобразным представителем смеховой стихии древней Руси.” […] Затеянная Грозным опричнина имела игровой, скомороший характер. Опричнина организовывалась как своего рода монастырь с монашескими одеждами опричников как антиодеждами, с пьянством как антипостом, со смеховым богослужением, со смеховым чтением самим Грозным отцов церкви о воздержании и посте во время трапез-оргий, со смеховыми разговорами о законе и законности во время пыток и т.д.”[83] Грозный не посмел посягнуть на социальный порядок с позиций самого этого порядка. Он использовал прием выхода из этого порядка в сферу антипорядка и оперся на него, натравив хаос на порядок, с которым он воевал. Опричнина была затянувшимся карнавалом, внедренным кровавыми ударами в официальный социальный порядок. Д.С.Лихачев описывает далее, как эту же стратегию использовал протопоп Аввакум. Тот же прием, кстати, использовал Петр I с его Всешутейшим приказом. Кажется странным приписывание Грозному органичного дурачества. Эйзенштейн это прочувствовал очень точно. На самом деле смеховая стихия здесь снова – привычная оболочка, с помощью которой взламывается традиционный социальный порядок. Смех здесь не главное (какой уж там был смех!). Главное – привычка общества к институализированным формам расшатывания социального порядка.
Одно из самых распространенных в социологической литературе противопоставлений, которое, возможно, также приходит в голову в данном контексте – это пара рациональное и иррациональное. Представляется, что в данном случае мы имеем дело не с частным случаем дуализма детерминированного и случайного, а с обычным артефактом. Понятие рационального (иррационального) представляется бессмысленным, когда оно прилагается к некоторым определенным сторонам (объектам, процессам) социального порядка с попыткой “объективного вменения”. Любой социальный порядок существует и сохраняется посредством повторяющихся скоординированных практик индивидов. Эти действия воспроизводятся постольку, поскольку они соответствуют некоторым интересам, целям индивидов и групп. Воспроизводимость практик в рамках данного социального порядка свидетельствует о том, что последний “удовлетворяет” индивидов и группы (или их существенной части) в качестве средства или условия достижения их целей. Значит, следуя Веберу, мы должны признать такой социальный порядок (институт, структуру) рациональным. Это значит, что любой социальный порядок рационален постольку, поскольку он существует и стабилен. Поэтому понятие рациональности должно относится не к объекту, а к субъекту исследования. Оно характеризует степень его понимания ситуации. В этом смысле представление о рациональности социального порядка может посредством социолога стать частью этого порядка, поддерживая его “рациональную легитимность”. Возможно, что преодоление социального порядка начинается с изменения представлений акторов о целях его существования и обобщенной цене средств, затрачиваемых на поддержку этого существования.
Эти изменения влекут за собой создание ощущения о нерациональности социального порядка в смысле его неадекватности новым целям или расточительности при их достижении. Тогда понятно, что функция преодоления социального порядка направлена на разрушение действующей рациональной легитимности, старой системы целей, старого представления о рациональности. Таким образом, рациональность и ее отрицание относятся к свойствам, приписываемым акторами социальным установлениям (наряду с другими свойствами) и связаны с одним из аспектов легитимности этих установлений. Следовательно, эти понятия ближе к таким парам как “добро и зло”, “моральное и аморальное”, нежели к паре “детерминированное – случайное”.
Некоторые шаги в сторону
Подтверждения фундаментальности функции преодоления социального порядка можно искать двумя способами: пойти “вниз”, на уровень психики, или “вверх”, на уровень обширных “социальных полей” (пользуясь терминологией Бурдье). Действительно, противостояние порядка и случайности обнаруживается и на уровне индивидуальном. В социологии это отражено, например, в концепции I и me Мида[84]. В этой концепции me отражает ту часть личности, которая определяется внешним социальным контролем. Так обеспечивается возможность продуктивного социального взаимодействия с предсказуемыми взаимными ожиданиями и результатами. Напротив, I определяет индивидуальность, возможность развития и самореализации. По Миду I – обеспечивает изменения в социальном порядке. Отсюда возникает мостик между функцией преодоления социальной структуры и творческим началом личности – I. Возможные спекуляции на эту тему очевидны. Сходный дуализм можно усмотреть в двух свойствах личности, которые часто рассматриваются социальной психологией: конформизм и нонконформизм[85] с теми же богатыми возможностями для спекуляций. Идя в противоположную сторону, мы обнаруживаем “поле искусства” с его возможностью расшатывать социальный порядок. Например, искусство минизанга в XII в. расшатывало традиционную систему отношений между мужчинами и женщинами в рыцарском слое не только содержанием песен, но даже фактом своего существования[86].
Предстоит установить, является ли случайным следующее стечение обстоятельств: появление в эпоху Возрождения искусства, в его нынешнем автономном и секуляризированном понимании, сопровождалось исчезновением, с участием прямых властных запретов, шутов, праздников дураков, юродства. В любом случае, нет сомнений по поводу самого искусства. Георгий Федотов писал по этому поводу так: “… “революция духа”, т.е. радикальная ломка устоев старой культуры, не просто предшествовала социальным переворотам, но и предвосхищала их, по крайней мере, в Италии и в России. Первое десятилетие нашего века в этих странах проходило под знаком бурного развития “нового” искусства, принимающего там и здесь самые радикальные формы” […]“Искусство не отражает этой гибели, оно ее организует и вдохновляет… И когда человек убит окончательно, … из прессованных останков людей, горящих энтузиазмом, как из кирпичей, строится новое общество, … из мертвых звуков – музыка Стравинского. Пикассо и Стравинский в духовном мире значат тоже, что в социальном Ленин и Муссолини. Но зачинатели и пионеры – это они, а не политические вожди, которые делают последние выводы в самой последней, то есть низшей сфере деятельности.”.[87] (Малевич, “Англичанин в Москве) Подобных утверждений с весьма весомыми обоснованиями можно найти немало. Но одновременно нет сомнения в том, что институт искусства в его современном понимании защищается социальным порядком. Иное дело – различные течения внутри искусства. Именно здесь проявляется амбивалентность взаимоотношений поля искусства и поля политики. Одновременно проявляется многофункциональность искусства по отношению к социальному порядку: оно может и укреплять его, и расшатывать, как указывалось выше.
Интересна в этом отношении судьба авангардного искусства начала XX века[88]. Оно, бесспорно, участвовало в расшатывании действующего социального порядка. Многие авангардисты в России и Италии (Малевич, Эль Лисицкий, Маринетти) выводили социальные потрясения из своего искусства. Еще больше их коллег видели между тем и другим теснейшее родство. Дело не в изобразительных особенностях авангардной живописи, а в том, что она давала нонконформистскую альтернативу в символической сфере, точно так же, как идеологии революционных движений давали ее в сфере социально-политической. Важна, естественно, и радикальность альтернативы, и радикальность метода ее навязывания обществу. Не только содержание, но и социальная практика футуризма готовили будущие практики большевизма и фашизма. По этому поводу Голомшток цитирует Бенедетто Кроче: “Всякий, кто обладает чувством исторической последовательности, идеологические источники фашизма может найти в футуризме – в его готовности выйти на улицы, чтобы навязать свое мнение и заткнуть рот тому, кто с ним не согласен, в его отсутствии страха перед битвами и мятежами, в его жажде порвать со всяческими традициями и в том преклонении перед молодостью, которым отличен футуризм.”[89] Цитата комментариев не требует. Идеология тоталитаризма имела с авангардом еще одну общую важную черту: борьба за порядок против стихийности. Сходным образом новые течения в искусстве и в политике боролись со своими противниками (конкурентами) и декларировали свою исключительность и единственность. Тут явный парадокс: авангард, доводя до абсурда обсуждаемую функцию искусства, расшатывал социальный порядок, чтобы заморозить его. Он помогало формировать социальный порядок, про который И.Голомшток сказал: “Идеальное тоталитарное общество, если бы такое существовало, превратилось бы в неорганический монолит – в застывшую глыбу исторического времени со вмерзшими в нее миллионами человеческих интенций.”[90] (Маринетти, “Судан Париж”)
Тоталитарные политические группы точно также использовали искусство, как Иван Грозный и Петр I использовали “второй мир” смеховой культуры. Но интересно другое: как и почему обошлись победившие тоталитарные режимы со своими вдохновителями из поля искусства. В Италии лидеры авангардизма сначала входили в новый властный истеблишмент, а потом были оттеснены. В Германии авангард быстро стал маргинальным течением. В СССР он попал в промежуток между гонениями и прямыми репрессиями. Попутчики и первопроходцы, выполнившие свою функцию, были отброшены новой властью. Не ясно, сработал ли инстинкт или это было осознано, но власти не могли долее поддерживать тех, кто расшатывал предшествующий социальный порядок. Победившие тяготели к помпезным формам (начиная с французской революции). Может быть, это был способ вытеснения одних ритуалов и символов другими с целью обрести собственную символическую легитимность. Авангард был здесь совершенно неуместен. Именно в этом одно из противоречий тоталитарных режимов: они стремились всеми силами и средствами “унять дрожь” решетки социального порядка для “усиления государства”, замораживая живую социальную ткань и, тем самым, делая ее хрупкой. И уже новые течения искусства способствовали возникновению трещин на этой глыбе (как это было в СССР), предвосхищая ее распад.
Промежуточный гимн случайности
Теперь мы готовы в несколько перефразированной форме воспроизвести ключевой тезис, приведенной в начале статьи и защищаемый в этой работе: Возможность изменений социального порядка содержится в самом социальном порядке. Эта возможность может быть поименована термином случайность (хаос, беспорядок). Социальный порядок содержит в самом себе структуры (роли, функции, институты, поля), предназначенные для поддержания, воспроизводства случайности. В той мере, в какой социальный порядок способен защищать эти структуры, в той же мере он содержит в себе возможность социальных изменений. Подчеркну, здесь случайность – такое же имманентно присущее социальному порядку свойство, каким оно является, например, для элементарных частиц в физике. Парадоксально: случайность занимает фундаментальное место в физике, перенасыщенной детерминированными законами. Случайность всесторонне исследована математикой. Но одновременно ей почти нет места в социальных науках, в которых эмпирические детерминированные закономерности практически отсутствуют, а теориями этот факт практически не отражается. Как признает Р.Будон: “В социальных науках случай большей частью предстает как нежелательный гость. Он встречается повсюду, но в целом его стараются затушевать, стереть из памяти, а в отдельных случаях – отрицать его существование. […] Некоторые признают его существование и объективность. Но подавляющее большинство хотело бы видеть в нем простой продукт нашего незнания. […] случай по определению не может представлять интереса познания. […] Не означает ли утверждение о том, что своим происхождением событие обязано случаю, признания другого утверждения, а именно о том, что своим происхождением оно ничему не обязано или, по меньшей мере, что нам не известны причины его появления?”[91]. Сам Будон последовательно подтвердил приведенную оценку, отведя случаю в своих построениях подчиненное место механизма, увеличивающего разнообразие “каузальных цепочек”[92]. Но это не хуже, чем беспомощное признание существования случайности Поппером, который отождествлял ее с непредсказуемостью[93], и неописуемой спонтанности Шютца[94].
Классическое отношение к случайности выражено в традиции российской философии. Например, С.А.Левицкий высказывается по этому поводу следующим образом: “Итак, случайность в субъективном смысле есть полезное регулятивное понятие: оно указывает на ограниченность той системы координат, которой мы пользуемся. Случайность же в объективном смысле неизбежно приводит к утверждению “абсолютной случайности” — понятие, не реализуемое в мысли и противоречащее осмысленности бытия. Случайность в объективном смысле приемлема лишь как псевдоним свободного акта.”[95] С точки зрения объективного смысла интереснее, как Левицкий трактует понятие свободы: “Итак, свобода всегда есть выход из круга данностей, есть прорыв к новому, есть внесение новизны в бытие, есть усмотрение и реализация новых ценностей.”[96] В контексте данной статьи за этим описанием легко увидеть то, на что, собственно и направлена функция преодоления социального порядка.
Возвращаясь к трактовке Левицким случайности в “объективном смысле”, было бы уместнее трактовать ее не как псевдоним, а как синоним свободы. Приводившиеся в первом разделе статьи цитаты из Эйзеншдадта и Дуглас свидетельствуют о том, что есть авторы, которые отводят ей весьма серьезную роль. Но они ограничиваются констатацией этой роли, не пытаясь указать на социальные институты случайности. Здесь же предлагается усматривать их в разнообразных социальных установлениях, от мифа о Трикстере до искусства.
Когда работа над этим исследованием уже подходила к концу, мне удалось получить подтверждение институциональной природе случайности в социальном порядке в одном из текстов по экономической социологии и по совершенно другому поводу. Вот захватившая меня цитата из Д.Старка: «Каждый вечер во время сезона охоты индейцы наскапи, жившие на полуострове Лабрадор, держа над огнем лопатку канадского оленя карибу, определяли, куда завтра отправиться за дичью. Рассматривая следы копоти на ней, шаман указывал группе охотников направление охоты. Таким образом, индейцы наскапи вводили в свои действия элемент случайности, позволявший избежать давления краткосрочной рациональности, которая заставляет предполагать, что наилучший способ найти дичь завтра, — поискать там же, где ее нашли сегодня. Каждый день, изучая следы, оставленные копотью на лопатке оленя, они могли избежать ловушки “замыкания” на первых успехах: удача, достигнутая в краткосрочном периоде, в длительной перспективе обернулась бы истреблением оленей карибу в округе и тем самым снизила бы вероятность последующей удачной охоты.»[97]
Мне уже приходилось выше упоминать один из ключевых принципов математической теории игр: в играх с природой оптимальной является случайная стратегия. В описанном Старком ритуале реализуется именно этот принцип. Природа стохастична по своей сути: от микромира до погоды. Следовательно, этой случайности необходимо противопоставлять случайность, порождаемую человеком. Она может работать как инструмент разрешения кризисных ситуаций, с чем были связаны некоторые описанные в данной статье ритуалы. Она может быть также постоянно действующим механизмом достижения оптимального результата в повседневной деятельности, как у индейцев наскапи. Наконец, случайность может быть резервным ресурсом, постоянно воспроизводимым обществом для поддержания готовности к социальным изменениям, что обосновывается в данной работе. Мы видим, что случайность пронизывает различные структуры и уровни социального порядка. Случайность социально плодотворна, что не является открытием данной работы. Но тем более странно, что она так мало изучена социальными мыслителями. Смею утверждать, что одно из прорывных направлений будущей социологии – это именно социология случайного.
Финальные гипотезы
В заголовок данной статьи вынесено мое отношение к завершающемуся тексту: обсуждение некоторой гипотезы. Обсуждение завершено. Но как это обычно бывает, работа по обоснованию одной гипотезы привела к формулированию ряда смежных, тесно взаимосвязанных как с подтверждением основной гипотезы, так и друг с другом. Полагаю полезным, завершая статью, остановится на возникших соображениях.
Гипотеза 1: дуальность парадигм социальных изменений. Следующий вопрос кажется неизбежным: всякие ли общества используют институализированную случайность как ресурс социальных изменений? Или: везде ли существуют институты поддержания функции преодоления социального порядка? Я не располагаю точным ответом на этот вопрос. Мои “полевые” попытки поиска ответа свелись пока к беседам с несколькими специалистами по восточным культурам и интеллектуальными представителями этих культур (Китай и Горный Алтай). Всем я задавал вопрос: есть ли в их (или ими изучаемых) культурах установления вроде шутов или праздников дураков. Пока неизбежно следовал один ответ: нет. Поверхностные попытки поиска в научной литературе также пока подтверждают этот ответ. Для окончательного однозначного ответа все же оснований нет. Тем не менее, я считаю более правдоподобной следующую гипотезу: Все цивилизации могут быть разделены на два типа по их отношению к случайности и по ее “эксплуатации” в качестве ресурса социальных изменений. Одни цивилизации относятся к случайности (хаосу, беспорядку) лояльно, без страха и, более того, в различных формах институализируют и используют его. Другие боятся случайности, борются с ней. В таких цивилизациях должны существовать иные внутренние ресурсы и механизмы, обеспечивающие возможность социальных изменений.
Тем самым двум типам цивилизаций должны соответствовать две различных парадигмы социальных изменений. В связи с этой гипотезой возникает дурацкий, казалось бы, но совершенно закономерный вопрос: а почему, собственно два типа? Почему не один? Почему не больше двух? Каков вопрос, таков и ответ: нас ведь не смущает, что у магнита именно два полюса, как его не разрезай. Еще: нас также не смущает, что биологические организмы на достаточно высокой стадии развития и практически без исключения обеспечивают воспроизводство видов с помощью двух полов – женского и мужского. Не как подтверждение или обоснование, но как интеллектуальная перекличка, возникает параллель с концепцией двух институциональных матриц Светланы Георгиевны Кирдиной. В ней задаются два типа обществ по двум допустимым сочетаниям также двух типов политических экономических и идеологических фундаментальных институтов.[98]
Коль скоро обсуждаемая гипотеза правдоподобна, указания на два типа цивилизаций, различающихся описанным выше образом, может быть обнаружено в истории культур. Например, космологические мифы древнего Египта и Месопотамии дают примеры двух различных отношений к случайности[99]. Мифы о зарождении мира в Древнем Египте трактуют зарождение порядка из хаоса. Но при этом отношение к хаосу лояльное. Акт творения не уничтожает хаос, но лишь отводит ему свое место в учреждаемом творением порядке. В то же время мифы о творении в Месопотамии рассказывали о порядке, который возникал в результате победы над хаосом – врагом порядка. Не следует, однако, рассматривать это разделение на два типа совершенно жестко. Против выдвинутой гипотезы может свидетельствовать тот факт, что один из главных богов культур Месопатамии Энлиль (бог грозы – “глава исполнительной власти” в божественном синклите), охраняющий порядок, в “Мифе об Энлиль и Нинлиль” сам нарушает установления и изгоняется советом богов (чем не Трикстер?). Именно поэтому я говорю о гипотезе. Но она заслуживает проверки, что аргументируется связью с двумя другими гипотезами, приводящимися ниже.
Гипотеза 2: Демократия как институционализация случайности. В период работы над этой статьей, 14 апреля 2004 г. я слушал по радиостанции “Эхо Москвы” интервью с известным американским конгрессменом Томом Лантосом. Он делился своими соображениями о выборах в России и США. Если резюмировать смысл его высказываний, то получится примерно следующее: “Выборы в США правильные, поскольку их исход заранее не предсказуем. Выборы в России неправильные, поскольку их исход заранее определен.” На первый взгляд это может показаться странным: “Как же можно говорить, правильные выборы или не правильные, если не известно еще, кого выбрали? Если правильного человека выбрали, то и выборы правильные.” Здесь уместна параллель с охотой, на которую собираются мужчины племени наскапи: “Охота правильна, если удалось завалить здорового оленя. Если охота правильна, то и шаман указал правильное направление.” Именно такая логика и заводит в “ловушку первого удачного решения”, о которой пишет Дэвид Старк, обсуждая ритуалы индейцев наскапи. Суть в том, что непродуктивно рассматривать эффективность (результативность) отдельной охоты, а следовательно – эффективность однократно выбранного направления охоты. Нужно анализировать эффективность стратегии выбора направлений охоты на длительном отрезке времени.
Именно тогда выясняется, что эффективна стратегия случайного выбора. Точно также в случае выборов в органы власти. Эффективность этого института определяется на длительном отрезке, и тогда оказывается, что главное в выборах – это непредсказуемость результата, случайность. Аналогия здесь совершенно уместна. Выбору направления охоты, случайно осуществляемому шаманом по копоти на оленьей лопатки, соответствует выбор направления развития (хотя бы в рамках альтернативы “старое-новое”), случайно осуществляемый по итогам выборов. Иными словами, в долговременной перспективе смена направлений развития (смена программ), осуществляемая с помощью случайного выбора в рамках свободной политической конкуренции, эффективнее, чем следование одному конкретному социальному проекту. Продолжая аналогию, мы констатируем, что случайная стратегия позволяет индейцам наскапи адаптироваться к случайностям миграции животных в окружающей их среде. Точно также демократия, по определению Толкота Парсонса, это инструмент институциональной адаптивности, позволивший западным обществам выиграть у остальных именно за счет этого свойства[100]. Обсуждаемая гипотеза уточняет: именно случайность является тем самым ключевым свойством, которое обеспечивает указанную адаптивность. А сама демократия – способ институализации случайности, точнее – случайного поиска направлений развития. Это несколько отличается от тезиса Баумана об “антиинституционализме демократии”[101]. Любое общество институционально. Вопрос только в том, что же оно институционализирует. Предлагаемый ответ: демократия институционализирует случайный поиск направлений развития.
Гипотеза 3. Что после демократии? При обсуждении последней гипотезы мы попытаемся сомкнуть две предыдущие вокруг темы не только популярной, но и актуальной. Поскольку это сюжет побочный для данной статьи, я обхожу “анализ литературы” и перехожу к третьей гипотезе. Приведенный выше пример из жизни индейцев наскапи просто напрашивается на очевидные возражения. Главное из них может звучать примерно так: “Стратегия случайного выбора направлений охоты оптимальна только на множестве племен, занимающихся охотой. Как только мы расширяем область определения, то сразу выясняется, что животноводство много эффективнее.” Верно! Именно поэтому мы сегодня приносим мясо из магазина, куда она попадает из животноводческих ферм. Случайный выбор направлений охоты был оптимален постольку, поскольку охотничьи племена не знали животноводства. Переход на другой уровень развития (животноводство) делает бессмысленными прежние оптимальные стратегии жизнеобеспечения. Точно также демократия оптимальна постольку, пока и поскольку крайне ограничено наше социальное знание и разрушительно наше социальное проектирование. Переход на другой цивилизационный уровень поглотит демократию как способ институционализации случайного поиска направлений развития. Естественно, возникает следующий вопрос: а как же произойдет указанный переход на следующий цивилизационный уровень? Для ответа на этот вопрос я привлеку первую из гипотез и напомню об аналогии между двумя типами цивилизаций и двумя полами. Банально, но, скорее всего, этот переход произойдет в результате взаимодействия этих двух типов цивилизаций, точно так же, как процесс биологической эволюции не отделим от взаимодействия полов. Пока же мы видим либо столкновение двух типов цивилизаций, либо поглощение одной цивилизации другой, которое прикрывается термином “глобализация”. Если пользоваться метафорой полов, то развитие посредством глобализации можно уподобить превращению всех женщин в мужчин посредством хирургических операций по трансплантации чужеродных органов (с очевидным конечным результатом). И два заключительных замечания.
Первое. Вряд ли взаимодействие цивилизаций станет результатом конкретного социального проекта. Но оно сможет произойти только в результате изменения отношения друг к другу, основанному на понимании. Снова прибегая к метафоре, позволю себе следующую фантазию. Переход племени от охоты к животноводству могло стать возможным, когда охотники сталипонимать, что не обязательно изгонять из племени тех “психов”, которые приручали оленей, вместо того, чтобы их убивать. А сами психи в какой-то момент поняли, что нельзя бесконечно дружить с оленями, рано или поздно их надо кушать.
Второе. Взаимодействие двух типов цивилизаций, основанное на понимании, не приведет к отмене существования двух этих типов, точно так же, как скрещивание двух полов не приводит к их “усреднению”. Никуда не денется и роль случайности. Просто ее функция перейдет на другой уровень. Вот бы узнать про него и про нее!
В заключение перехожу к очень важной части статьи – к благодарностям. В моем случае благодарность большому числу людей, познакомившихся с данной работой до появления текстов статей, — следствие моей робости. Она связана с тем, что я впервые работал в подобном жанре и крайне боялся, что “сморозил чушь”. Без кокетства! Мои друзья и коллеги поддержали меня и дали множество ценных советов. Они прояснили мое понимание того, что я изложил неясно, указали возможности развития работы. Многие из замечаний учтены в статье. Другие будут обязательно использованы при дальнейшей работе. Вот эти люди, которым я чрезвычайно благодарен: Дж. Азраэл, А.Баранов, Ю.Благовещенский, А.Кара-Мурза, С.Кирдина, Э.Паин, А.Салмин, В.Ядов.
Цитированная литература
- Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1999.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990.
- Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. – М.: Логос, 2002. Бергер П., Лукман Т.
- Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / Пер. с англ. – М.: “Academia-Ценнтр”, “Медиум, 1995.
- Бородай Ю.М. Эротика, смерть, табу: трагедия человеческого сознания. – М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество, 1996.
- Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Пер. с фр. – М.: Аспект Пресс, 1998.
- Виоле-ле-Дюк Э.Э. Жизнь и развлечения в средние века: Пер. с фр. – СПб.: Евразия, 1999.
- Гидденс А. Устроение общества: Очерк теории структурации. / Пер. с англ. – М.: Академический проект, 2003.
- Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М.: Галарт, 1994.
- Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988.
- Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. / Пер. с англ. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2000.
- Кереньи К. Трикстер и древнегреческая мифология // В кн.: Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г.Юнга и К.К.Кереньи. – СПб.: Евразия, 1999.
- Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. М.: Тезис, 2000.
- Ковалевский И. Подвиг юродства. М.: “Лепта”, 2000.
- Копелян С.В., Лившиц В.Л. “Безумие социума” как атрибут цивилизационного развития // Человек в современных философских концепциях. Часть I. Материалы II международной научной конференции. Волгоград, 19-22 сентября 2000 г. – Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. университета, 2000. С. 162-167.
- Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа вXVI и XVII столетиях / В кн.: Быт и нравы русского народа в XVI и XVII столетиях – Смоленск: “Русич”, 2002.
- Леви-Стросс К. Путь масок / Пер. с фр. – М.: Республика, 2000.
- Левицкий С.А. Трагедия свободы. – М.: Канон, 1995.
- Лихачев Д.С. Смех как “мировоззрение” / В кн. Лихачев Д.С., Панченко А.М. “Смеховой мир” древней Руси. М.: Наука, 1976.
- Панченко А.М. Смех как зрелище / В кн. Лихачев Д.С., Панченко А.М. “Смеховой мир” древней Руси. М.: Наука, 1976.
- Парсонс Т. Система современных обществ/Пер с англ. – М.: Аспект Пресс, 1997.
- Прыжов И. 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков и другие труды по русской истории и этнографии. – СПб.: “ЭЗРО”, М.: “ИНТРАДА”, 1986.
- Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – Пер. с фр. – М.: Издательство “Правда”, 1956.
- Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г.Юнга и К.К.Кереньи. / Пер. с англ. – СПб.: Евразия, 1999.
- Соколов К.Б. Картина мира и искусство в периоды социальных перемен / В кн.: Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. – М.: Наука, 2002. Стр. 56-81.
- Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в постсоветских странах / В кн.: Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РООСПЭН), 2002. С.47-95.
- Тинберген Н. Социальное поведение животных.: Пер с англ. – М.: Мир, 1993.
- Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник. / Пер. с англ. – М.: Айрис-пресс, 2002. Стр. 270-296.
- Тэрнер В. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура. // В кн.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука” / Пер. с англ. – 1983.
- Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. – СПб.: Алейтея, 1995.
- Федотов Г. Четверодневный Лазарь // Круг. Альманах. – Берлин, 1936.
- Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 т. Т.8: Святые древней Руси. – М.: Мартис, 2000.
- Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Джю, Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Пер. с англ. – СПб.: Амфора, 2001.
- Фрэзер. Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии / Пер. с англ. – М.: ООО “Издательство АСТ”; ЗАО НПП “Ермак”, 2003.
- Хейзинга Й. Осень средневековья / Пер. с нидерландского. – М.: Айрис-пресс, 2002
- Шевалье П. Генрих III: Шекспировский король / Пер. с фр. М.: ТЕРРА, 1997.
- Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ.– М.: Аспект Пресс, 1996.
- Эйзеншдадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1999
- Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и писхогенетические исследования. Том 2. Изменение в обществе. Проект теории цивилизации. / Пер. с англ. – М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
- Юнг К. О психологии образа трикстера // В кн.: Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г.Юнга и К.К.Кереньи. – СПб.: Евразия, 1999.
- Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Пер. с англ. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.
- Billington S. A Social History of the Fool. – Sussex: the Harvester Press, N.Y.: St. Martin’s Press, 1984.
- Eisenstadt S.N. Heterodoxies and Dynamics of Civilization//Proceedings of the American Philosophical Society. June 1984, Volume 128, N2. Pp. 104-113.
- Glukman M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. Chicago, 1965.
- Homans G.C. Social behavior: Its elementary forms. – N.Y.; Burlingame: Harcourt, Brace & World Inc., 1961. Перевод: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ (РАН, ИНИОН, Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии) – М., 2001. – №2, с. 117-163; №3, с. 132-169; №4, с. 98-122. №4.
- Mead G.H. Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. – Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Popper K.R. The Poverty of Historicism. – N.Y.: Harper&Row, 1964. Weber M. Economy and Society, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1954.
[1]Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: “Academia-Ценнтр”, “Медиум, 1995. Стр. 87-89.
[2]Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. / Пер. с англ. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2000. Стр. 238.
[3]Эта мысль проводится в книге Гидденс А. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.: Академический проект, 2003.
[4]Эйзеншдадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1999. Стр. 59.
[5]Там же, Стр. 59.
[6]Дифференциация является одним из наиболее распространенных способов описания причин или свойств социальных изменений в социологии. Это делает приводимую цитату крайне важной.
[7]См. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и писхогенетические исследования. Том 2. Изменение в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Стр. 240.
[8]Тинберген Н. Социальное поведение животных.: Пер с англ. – М.: Мир, 1993. Стр. 102
[9]Weber M. Economy and Society, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1954, p. 22.
[10]Weber M. Economy and Society, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1954, p. 252.
[11]Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ.– М.: Аспект Пресс, 1996.
[12]Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Пер. с фр. – М.: Аспект Пресс, 1998. Стр. 5.
[13]Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г.Юнга и К.К.Кереньи. – СПб.: Евразия, 1999.
[14]Юнг К. О психологии образа трикстера // В кн.: Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г.Юнга и К.К.Кереньи. – СПб.: Евразия, 1999.
[15]Бородай Ю.М. Эротика, смерть, табу: трагедия человеческого сознания. – М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество, 1996. Стр. 10-11.
[16]Там же, стр. 278.
[17]Там же, стр. 284.
[18]Кереньи К. Трикстер и древнегреческая мифология // В кн.: Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К.Г.Юнга и К.К.Кереньи. – СПб.: Евразия, 1999.
[19]Там же.
[20]Радин П. Цит. соч., стр. 196.
[21]Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. / Пер. с англ. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2000. Стр. 123 и далее.
[22]Дуглас М. Цит. соч. Стр. 143.
[23]Леви-Стросс К. Путь масок / Пер. с фр. – М.: Республика, 2000.
[24]Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник. – М.: Айрис-пресс, 2002. Стр. 270-296.
[25]Тэрнер В. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура. // В кн.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1983 г. Стр. 107.
[26]Дуглас М. Цит. соч. Стр. 144.
[27]Прыжов И. 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков и другие труды по русской истории и этнографии. – СПб.: “ЭЗРО”, М.: “ИНТРАДА”, 1986. С. 31.
[28]Там же, стр. 48.
[29]Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988. С.153.
[30]См., например: Элиас Н.. О процессе цивилизации. Социогенетические и писхогенетические исследования. Том 2. Изменение в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Стр. 76, 91, 109.
[31]Хейзинга Й. Осень средневековья / Пер. с нидерландского. – М.: Айрис-пресс, 2002. С. 23.
[32]Billington S. A Social History of the Fool. – Sussex: the Harvester Press, N.Y.: St. Martin’s Press, 1984, 150 p.
[33]Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – Пер. с фр. – М.: Издательство “Правда”, 1956. С. 324.
[34]Шевалье П. Генрих III: Шекспировский король / Пер. с фр. М.: ТЕРРА, 1997. — 846 с.
[35]Даркевич В.П. Цит. соч. С.154.
[36]Виоле-ле-Дюк Э.Э. Жизнь и развлечения в средние века: Пер. с фр. – СПб.: Евразия, 1999. Стр. 295-298.
[37]В Париже это были бадены (Badins – шутники), тюрлепены (Turlupins – злые шутники) или “беззаботные ребята” (Enfants sans souci); в Пуатье – “веселая шайка аббата Могуверна”; в Дижоне – “дети сумасшедшей матушки” (Mиre folle); в Руане – олухи, или конары (Conards). (Там же, Стр. 295.)
[38]Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях / В кн.: Быт и нравы русского народа в XVI и XVII столетиях – Смоленск: “Русич”, 2002. С. 185-186.
[39]Исключением был только король. Эта традиция и сейчас укоренена в России.
[40]Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. Стр. 15.
[41]Фрэзер. Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии / Пер. с англ. – М.: ООО “Издательство АСТ”; ЗАО НПП “Ермак”, 2003. С. 611-612.
[42]Там же. С. 298.
[43]Даркевич В.П. Цит. соч. С.162.
[44]Гуревич А.Я. ММММММММММ // Вопросы литературы. 1966, №6. Стр. 207-213.
[45]Бахтин М.М. Цит. соч. С.87.
[46]Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию /Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1999. Стр. 268-275.
[47]Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. – СПб.: Алейтея, 1995. С. 105.
[48]Лихачев Д.С. Смех как “мировоззрение” / В кн. Лихачев Д.С., Панченко А.М. “Смеховой мир” древней Руси. М.: Наука, 1976. Стр.19.
[49]Там же, стр. 16.
[50]Там же, стр. 5.
[51]Ковалевский И. Подвиг юродства. М.: “Лепта”, 2000. – 381 с.
[52]Панченко А.М. Смех как зрелище / В кн. Лихачев Д.С., Панченко А.М. “Смеховой мир” древней Руси. М.: Наука, 1976. Стр.94.
[53]Ковалевский И. Цит. соч. Стр. 310.
[54]Там же, стр. 314.
[55]Там же, стр. 321.
[56]Там же.
[57]Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 т. Т.8: Святые древней Руси. – М.: Мартис, 2000. С. 164-165.
[58]Там же, стр. 172.
[59]Там же, стр. 163.
[60]Ковалевский И. Подвиг юродства. Стр. 58.
[61]Там же. Стр. 9.
[62]Там же. Стр. 307-308.
[63]Там же. Стр. 77.
[64]Там же. Стр. 146-147.
[65]Там же. Стр. 319.
[66]Eisenstadt S.N. Heterodoxies and Dynamics of Civilization//Proceedings of the American Philosophical Society. June 1984, Volume 128, N2. Pp. 104-113.
[67]Тэрнер В. Цит. соч. Стр. 169.
[68]Там же, стр. 196.
[69]Glukman M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. Chicago, 1965.
[70]Тэрнер В. Цит. соч. Стр. 241-242.
[71]Не правда ли, когда сами жрецы берутся за объяснения подобных мероприятий, у них получается одно и то же? Сравните это объяснение с приведенной выше мотивировкой праздников дураков, используемой парижскими церковниками.
[72]Там же, стр. 242.
[73]Там же, стр. 247-251.
[74]Там же, стр. 197.
[75]Там же, стр. 198.
[76]Там же, стр. 199.
[77]Бахтин М.М. Цит. соч. Стр. 13.
[78]Homans G.C. Social behavior: Its elementary forms. – N.Y.; Burlingame: Harcourt, Brace & World Inc., 1961. Перевод: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ (РАН, ИНИОН, Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии) – М., 2001. – №2, с. 117-163; №3, с. 132-169; №4, с. 98-122. №4, стр. 113.
[79]Лихачев Д.С. Цит. соч. Стр. 19.
[80]Копелян С.В., Лившиц В.Л. “Безумие социума” как атрибут цивилизационного развития // Человек в современных философских концепциях. Часть I. Материалы II международной научной конференции. Волгоград, 19-22 сентября 2000 г. – Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. университета, 2000. С. 162-167.
[81]Бахтин М.М. Цит. соч. Стр. 10.
[82]Там же.
[83]Лихачев Д.С.. Цит. соч. Стр. 61.
[84]Mead G.H. Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. – Chicago: University of Chicago Press, 1962.
[85]См., например: Аронсон Э. Цит. соч. С. 36-76.
[86]См. Норберт Элиас. Цит. соч. Стр. 67-91.
[87]Федотов Г. Четверодневный Лазарь // Круг. Альманах. – Берлин, 1936. Кн. 1. С.140. Цитируется по: Соколов К.Б. Картина мира и искусство в периоды социальных перемен / В кн.: Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. – М.: Наука, 2002. Стр. 56-81.
[88]Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М.: Галарт, 1994. 296 с.
[89]Голомшток И.Н. Цит. соч. стр. 21.
[90]Там же, стр. 8.
[91]Будон Р. Цит. соч. Стр. 210.
[92]Там же, стр. 216.
[93]Popper K.R. The Poverty of Historicism. – N.Y.: Harper&Row, 1964.
[94]Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Пер. с англ. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. Стр. 183.
[95]Левицкий С.А. Трагедия свободы. – М.: Канон, 1995. Стр. 102.
[96]Там же, стр. 147.
[97]Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в постсоветских странах / В кн.: Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РООСПЭН), 2002. С.47-95.
[98]Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. М.: Тезис, 2000.
[99]См., например: Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Джю, Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Пер. с англ. – СПб.: Амфора, 2001.
[100]Парсонс Т. Система современных обществ/Пер с англ. – М.: Аспект Пресс, 1997.
[101]Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. – М.: Логос, 2002.
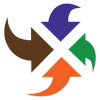






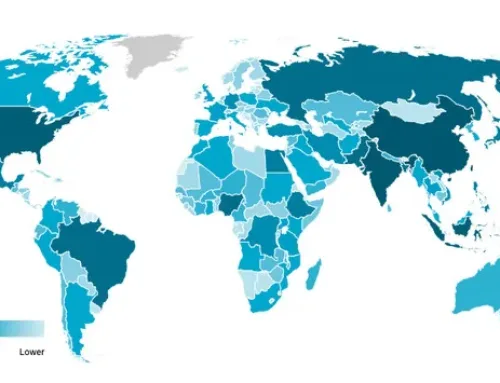

Оставить комментарий