«Обычный», замешанный на экономическом анализе марксизм представляется ФРАНКО «БИФО» БЕРАРДИ вульгарным: по его мнению, современные кризисы связаны не только с экономикой, но и с тем, как в капиталистической системе функционируют наши желания и эмоции. Именно поэтому в своем исследовании новых форм отчуждения Бифо соединяет марксизм с шизоанализом и идеями из теории коммуникаций — и описывает современность как психосоциальный процесс.
ФРАНКО БЕРАРДИ. Итальянский философ-марксист, футуролог, теоретик медиа, автор термина «когнитариат».
Интервью Александр Юсупов, 14 октября 2013.
А. Ю.В книге «Фабрика несчастья: новая экономика и движение когнитариата» (2001) вы сформулировали понятие когнитариата — плод размышлений на поднятую Марксом тему общественного интеллекта. В чем именно заключается связь между идеями Маркса и когнитариатом?
Ф. Б.Само слово «когнитариат», будучи образованным от слияния cognitio (лат. «познание») и старинного марксистского понятия пролетариата, стало отражением специфики современного общества, важную роль в котором играют производство и интерпретация информации. За точку отсчета в данном случае был принят Марксов «Очерк критики политической экономии» и, в частности, известный текст «Фрагмент о машинах». Важно понимать, что мысль Маркса не была однородной и в процессе своего развития прошла три важные стадии: «гегельянскую», гуманистическую (период написания первых текстов); центральную, когда был написан «Капитал», на страницах которого Маркс предложил глубокий анализ структуры и механизмов действия капитализма; и, наконец, менее известную третью стадию, когда им было выдвинуто понятие «всеобщего интеллекта» (General Intelleсt). Именно эта концепция, на мой взгляд, выступает основополагающей для понимания устройства современного мира.
А. Ю.Как концепция когнитариата связана с трудом и производством? Каким образом изменилось понятие труда в XXI веке и какова его роль в процессе утверждения когнитариата как новой формы социального объединения?
Ф. Б.Рассуждая на эту тему, необходимо не впадать в крайности и не считать происходящие процессы однонаправленными. Современное производство отнюдь не едино в своей структуре. Класс промышленных рабочих не исчез с лица Земли; более того, он никогда не был столь многочисленным, а составляющие его люди труда никогда прежде не подвергались столь жесткой экономической эксплуатации, как сегодня. Возникает вопрос: по какой причине мы говорим о всеобщем интеллекте и о когнитариате? Дело в том, что класс промышленных рабочих, оставаясь значимым явлением в сфере производства, перестал быть эпицентром политических процессов и утратил какую бы то ни было политическую силу. Почему же рабочие, оставаясь многочисленной социальной группой, продолжая бороться за свои права, организуя стачки и движения протеста, как это происходит, например, в Китае, где ежегодно случаются тысячи забастовок, при этом не добиваются ровным счетом никаких результатов? Ответ заключается в том, что в наше время главным полем политических процессов стала интеллектуальная деятельность, связанная пуповиной с разветвленной информационной сетью. Центр тяжести понятия «труд» сместился в сторону создания, получения и распространения информации, в то время как на периферии этого интеллектуального пространства сформировался гигантский рынок практически рабской рабочей силы. Таким образом, мы имеем дело с двумя взаимозависимыми процессами: с одной стороны, происходит развитие интеллектуального труда, с другой — возрастает степень угнетения рабочих, поскольку работа по контракту становится все большей редкостью, а отсутствие документально оформленных отношений рабочего и работодателя быстро превращается в тотальную эксплуатацию ввиду отсутствия эффективных профсоюзных и политических рычагов воздействия на ситуацию. В таком виде перед нами предстает обновленная версия понятия «всеобщего и повсеместного труда».
А. Ю.Причины и способы объединения промышленного пролетариата нам хорошо известны, чего нельзя сказать о когнитариате. Что может стать причиной его консолидации? Общественные протесты? Госструктуры? Социальные сети?
Ф. Б.В этом заключается, на мой взгляд, самый главный вопрос текущего столетия, и ясного политического ответа на него в данный момент не существует. В XX веке рабочий класс имел широкие возможности по созданию собственных оперативных структур, объединению на определенной территории и реализации политической воли через известные формы организации — забастовки, создание партий и профсоюзов, захват власти революционным путем. Когнитивное производство, напротив, лишено какой бы то ни было конкретики, оно не имеет социального тела, с помощью которого можно было бы действовать. Его взаимодействие с жизнью общества протекает в основном через телевизионную сеть, Интернет, виртуальные технологии, что крайне затрудняет — а порой делает попросту невозможной — организацию политических сил в том виде, в котором мы знали ее на примере событий XX века. На данный момент мы имеем за плечами десятилетие мобилизации когнитивного труда: среди наиболее ярких примеров — движение No Global, развернувшееся на огромном пространстве от Сиэтла до Генуи, а также разные этапы движения Occupy, имевшие место в 2011 году в Лондоне, арабских странах, ряде городов Испании и США. Рассуждая об итогах этих движений, нельзя игнорировать очевидное: они не имели никаких результатов и никак не повлияли на расстановку политических сил или качество жизни. Причина заключается в том, что новая форма труда не может изменить реальное положение дел через физическую мобилизацию сил в пределах городского ландшафта. Вышеназванные движения (их список можно было бы продолжить) стали лишь попыткой возрождения духа солидарности, воссоздания единого организма, нового переживания ощущений, которые теперь кажутся нам безвозвратно утраченными. Суть проблемы заключается в специфике прекарной (временной) работы — одной из базовых характеристик когнитивного труда. Прекарная работа — это форма работы без гарантий и долгосрочной перспективы, лишенная привязки к конкретной территории и к физическому присутствию. Последнее обстоятельство можно понимать буквально: тело рабочего никогда не контактирует в одном оперативном поле с телами других рабочих. В этом заключается главная причина слабости современных социальных движений. В последние десять лет мы стали свидетелями появления и становления когнитивного прекарного труда как нового явления политической жизни и сферы производства. Однако нам неизвестно, с помощью каких действий те, кто занимается этим трудом, смогут наиболее эффективно выразить свои идеалы.
А. Ю.«Демократия мертва» — так в одном из интервью вы высказались о состоянии современных политических структур. Смерть демократии — следствие «бестелесности» общества? Можно ли говорить о том, что демократия не соответствует требованиям и новым расстановкам социальных сил?

Буржуазия, 19 век
Ф. Б. Демократия мертва, потому что финансовый капитализм породил такую систему власти, которая не признает даже сам факт существования общества. Демократия хорошо работала тогда, когда экономические рычаги управления находились в руках буржуазии. Буржуазия была общественным классом с четко выраженной привязкой к территории: это был правящий класс городов, «бургов». Буржуазия имела потребность в образовании собственного сообщества и создании системы отношений внутри него. Сегодня финансовые верхи не имеют никакой связи с территорией и не принадлежат какому‑либо сообществу. Финансовый капитализм как система не только не опирается на город, страну или национальную принадлежность, но даже не признает сам факт их существования. В подобных условиях демократия невозможна. Действия, предпринимаемые руководящими европейскими структурами в финансовой сфере, абсолютно не соответствуют интересам населения. В Греции, когда Георгиос Папандреу предложил вынести на референдум вопрос об «особых мерах», вводимых европейским Центробанком, он тут же, в один миг, был изгнан из власти. В России и Китае, недавно вступивших в ряды капиталистических стран, демократии вообще никогда не было и никогда не будет, потому что эта форма государственного устройства не может сосуществовать с современными формами финансового капитализма.
А. Ю. Противники радикальных реформ в сфере управления часто используют такой аргумент: чтобы осуществить перемены, нужно замедлить темпы работы государственной машины, а то и вовсе остановить ее, что может привести к непредсказуемым последствиям. На ваш взгляд, возможно ли сегодня реформировать государство через государство, власть — через власть? Или нужны принципиально иные пути развития политической эволюции или революции?
Ф. Б. Язык, на котором мы говорим, устарел; используемые нами понятия абсолютно несовременны. По необходимости мы продолжаем мыслить категориями, которые сформировались в начале прошлого столетия, и говорим о революции, реформе, демократии, национальном государстве, то есть о том, чего уже не существует. Есть лишь такие формы, но реальная власть никак на них не проецируется. Реальная власть сегодня — это тотальный контроль над умами людей, осуществляемый через управление информационными потоками, в которых движутся современные боевые суда — СМИ. Как в Италии, так и в России актуальной формой диктатуры, фашизма (эти два устаревших слова мне тоже не следовало бы использовать, потому что мы имеем дело не с фашизмом и не с диктатурой) становится обширное воздействие на коллективный ум общества с помощью информации. Вторая важная проблема нашего времени — смещение центра производственного процесса в сторону когнитивной деятельности. Следовательно, фундаментальными вопросами XXI века будут коллективный ум и «псюхе» человеческого мозга в самом что ни на есть физическом смысле этого слова. Главной темой будущего, на мой взгляд, станет то, что имел в виду Барак Обама, когда объявил ключевым направлением научной деятельности грядущего десятилетия создание «карты активности мозга» (brain activity map). Вокруг этой тенденции научного и технического развития будет выстраиваться политика будущего: в ее центре будет располагаться Всеобщий интеллект, General Intelleсt, о котором говорил Маркс. Всеобщий интеллект станет полем великой битвы будущего. С одной стороны, будут развиваться формы медийного и психофармакологического влияния на человеческий мозг; с другой — всеобщий интеллект будет создавать собственные формы консолидации. В этом поле будет решаться судьба человечества — если допустить, что оно переживет следующие 20 лет, в чем я сильно сомневаюсь.
А. Ю. Значит, в ближайших перспективах жизни человечества не только новая волна экономического кризиса, но и собственно борьба за выживание?
Ф. Б.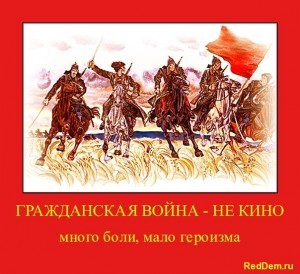 В данный момент на нашей планете уже идут два вида войн. Первый из них — война, связанная с систематическим разрушением среды обитания человека. По данным исследований экологов, около миллиона двухсот тысяч жителей Китая погибли в 2012 году от загрязнения окружающей среды. Миллион двести тысяч человек — это десять Хиросим: десять ядерных бомб разорвались в прошлом году в китайских городах. Нам известно, что происходит в Японии после Фукусимы. Нам известно, во что превратилась среда европейских городов и крупных населенных пунктов по всей планете. Второй вид текущей войны — собственно вооруженные столкновения, которые происходят на огромной территории от Афганистана до Марокко и в скором времени распространятся по территории Европы; ближайшее реальное будущее Европы — гражданская война в Греции, Испании, Италии, Венгрии, Румынии, Франции. В ткани эти двух видов войн заложена великая битва за Всеобщий интеллект.
В данный момент на нашей планете уже идут два вида войн. Первый из них — война, связанная с систематическим разрушением среды обитания человека. По данным исследований экологов, около миллиона двухсот тысяч жителей Китая погибли в 2012 году от загрязнения окружающей среды. Миллион двести тысяч человек — это десять Хиросим: десять ядерных бомб разорвались в прошлом году в китайских городах. Нам известно, что происходит в Японии после Фукусимы. Нам известно, во что превратилась среда европейских городов и крупных населенных пунктов по всей планете. Второй вид текущей войны — собственно вооруженные столкновения, которые происходят на огромной территории от Афганистана до Марокко и в скором времени распространятся по территории Европы; ближайшее реальное будущее Европы — гражданская война в Греции, Испании, Италии, Венгрии, Румынии, Франции. В ткани эти двух видов войн заложена великая битва за Всеобщий интеллект.
А. Ю. Другой известный ваш тезис, сформулированный в статье «Усталость и старческая утопия грядущего европейского восстания», — пассивность как форма сопротивления: в современном мире, находящемся в непрерывном движении, необходимо замедлить ритм жизнедеятельности; в этом может заключаться форма радикального сопротивления. Как именно можно «остановить Землю»?
Ф. Б. Доминирующей идеей революционных освободительных движений XX века был активизм, то есть определенного рода состязание с властью, в котором выигрывает тот, кто сумеет сделать больше, кто будет активнее, агрессивнее, быстрее. Это сражение мы проиграли — в том числе и потому, что капиталистический мир достиг максимальной скорости. Поль Вирильо описал это так: в современном мире выигрывает тот, кто движется быстрее. Сейчас очевидно, что наращивание скорости — тупиковое направление для существования человека, «голой жизни», если воспользоваться термином философа Джорджо Агамбена. Мне кажется, что правильным в этой ситуации будет приближение человечества к философии дзена, буддистским канонам восприятия жизни. Мы должны найти в себе силы признать, что в противном случае жизнь рано или поздно превратится в тотальное соревнование с постоянно возрастающими скоростями. По этой причине необходимо принять сторону пассивности, бездействия, отказа от рабочей деятельности, замедления ритма жизни. Это вовсе не означает, что мы должны отказаться от новых технологий, вернуться в искусственное прошлое, но необходимо уметь разделять стремительное расширение ассортимента технических возможностей и более медленное развитие форм естественной жизни. Человечеству необходимо восстановить собственное «тело» и отказаться от описания его свойств в терминах автоматизации власти и производства.
А. Ю. Мысль о необходимости отказа от параноидального движения вперед звучит в ряде других важных современных философских работ — например, в труде «Будущее человеческой природы» Юргена Хабермаса, где «природа» прямо противопоставляется «прогрессу». Каково современное понимание прогресса и в какой степени оно соотносится с идеей прогресса, существовавшей в XX веке?
Ф. Б. Идея прогресса — важная составляющая идеи будущего — сформировалась в ходе становления современного общества и очень тесно связана с идеей неисчерпаемой энергии, «вечного двигателя». Человек создал глобальный миф о будущем как о времени постоянного роста. На сегодня, однако, эти возможности исчерпаны; продолжать говорить о перманентном развитии означает двигаться прямиком к разрушению окружающей среды и уничтожению коллективной «псюхе», «земной души» человечества. Мы должны научиться разделять «рост» и «будущее» — две идеи, которые в рамках модернового общества оказались спаяны воедино. С конца 1970‑х формула no future стала одной из основных идей панк-движения, новой формы молодежной культуры. Само это выражение означает осознание неизбежного разделения вышеназванных понятий. «Будущее» по определению находится выше «настоящего»: но мысль о будущем как об эпохе роста приводит человечество к уничтожению уже сейчас, в настоящем. Приемлемые условия для жизни человечества могут быть восстановлены только за счет формулирования новой философии общества, главным постулатом которой станет независимость от идеи прогресса как постоянного развития.
А. Ю. Капиталистическая система базируется на корреляции ритма жизнедеятельности с ритмом заработка: чем больше работаешь, тем больше получаешь. На этом основаны теория индивидуализма и американская экономическая модель. Вы неоднократно говорили о необходимости изменения смысла денег. Возможно, в этом контексте как раз и следует вернуться к идеям Маркса?
Ф. Б. Абсолютно верно: мы должны вернуться к базовой идее Марксова «Фрагмента о машинах». По существу, ритм — это производительность, и ускорение ритма, как следствие, связано с интенсификацией производства: необходимо двигаться быстрее, чтобы производить больше. Во «Фрагменте о машинах» Маркс пишет именно об этом: машина, говорит он, всегда будет двигаться быстрее, наука и техника — всегда наращивать интенсивность производства, но далее, замечает Маркс, наступит момент, когда человечество сможет доверить самой машине возможность регулировать собственную скорость, производство и сверхпроизводство. В этом заключается суть вопроса о независимости человечества как разделении сферы повседневной жизни и сферы производства. Труд как таковой перестанет быть краеугольным камнем деятельности человека и будет относиться к сфере технологий; таким образом, люди смогут сконцентрировать внимание на образовании, культуре, науке, изобретениях, проектировании, эстетике. Подобный сценарий развития событий — вовсе не утопия, а единственный наш выход. Тем не менее капитализм никогда не мог и не сможет двигаться в этом направлении, потому что в его основе лежит логика роста, постоянного расширения сферы влияния той формы богатства, которая известна нам в виде денег. Следовательно, главным вопросом становится выход ритма человеческой жизни за пределы ритма работы машин.
А. Ю. Рассуждая о прогрессе и новых формах структурирования общества, мы не можем не принимать во внимание проблему конфликта поколений. В XX веке идея прогресса впитала в себя достаточно сильную дозу фашистской риторики, которая ставила во главу угла молодежь, управляемую «вечно молодыми» вождями. Как вы видите себе современную молодежь? Представляют ли собой сегодня, скажем, студенты эффективную силу реформации общества?
Ф. Б. Роль студенчества в современном обществе следует рассматривать с точки зрения двух базовых характеристик этой части общества: прекарной работы и когнитивной деятельности. Эти два обстоятельства могут объяснить инертность современных студенческих движений. Я внимательно следил за протестами студентов в 1970‑е, в 1990‑е, в нулевые и в последние годы. Главная причина их слабости заключается в «бестелесности», недостаточной «солидарности тел»: я имею в виду не общность политических идеалов, а психологический аспект явления — место тела человека в современном городском ландшафте. Физическое удовольствие было заменено на виртуальное общение, которое все больше зависит от некоей неосязаемой «сети» и все меньше представляет собой, говоря образно, общение двух стремящихся друг к другу тел. В этом заключается главная причина слабости оппозиционных политических движений современности. Вопрос поколений тоже очень важен: впервые в истории модернового общества на Западе — в США, странах Европы — новое поколение понимает, что его жизнь будет хуже, чем жизнь предыдущего поколения. У представителей нового поколения будет более низкая зарплата, меньше возможностей потребления, приобретения нового опыта, меньше удовольствий, меньше поводов радоваться жизни. Сексуальные отношения медленно, но верно превращаются в соревнование; восприятие красоты женского тела становится более агрессивным. В то же время есть и другое необычное обстоятельство: численный рост пожилого поколения. Во всем мире, за исключением исламских стран и, возможно, России, продолжительность жизни возрастает, налицо процесс старения жителей планеты. Это оказывает мощное воздействие на изменение психологии общества и поиск новых формулировок будущего на фоне депрессии молодого населения развитых стран.
А.Ю. В каких отношениях это «поколение роста» — или очередное потерянное поколение — находится с собственным прошлым, с собственной историей?
Ф. Б. Мы уже упоминали о том, что капитализм (или, точнее, семиокапитализм) — мощнейшее движение, направленное на делокализацию жизненных процессов. Эта тенденция, в свою очередь, приводит к ощущению необходимости восстановления целостности некоей территории, с которой человечество ощущало бы духовное родство. Глобализация выражается в постоянном перемещении людей и информационных потоков, что приводит к разрушению человеческого сообщества, потере телесного контакта. Каждый отдельный житель планеты и все человечество в целом нуждаются в обретении «своей земли», общего пространства, которое обречено быть абсолютно вымышленным, искусственным, ибо в реальности его больше нет. Философские поиски в этом направлении приводят нас в прошлое, возвращают к понятию общности — этнической, расовой, религиозной, территориальной, криминальной, семейной; все эти общности, формируемые здесь и сейчас, являют собой лишь плод коллективного воображения. Почему возникли и стали актуальными такие явления, как исламский фундаментализм, «Лига Севера» в Италии, культ православия в России? Потому что таких форм идентичности (термин, объединяющий понятия общности и своеобразия) более не существует — и, следовательно, совершаются попытки возродить их к жизни через насилие, так как единственный способ восстановить территориальное и культурное единообразие — это агрессия. Наиболее наглядный пример реализации подобных тенденций — Югославия 1990‑х годов: мирная страна, на территории которой сосуществовали разные культуры и этносы, в один момент — вследствие краха югославского социализма и запуска центробежных процессов — превратилась в пестрый ковер разрозненных общностей, сформированных по национальному, культурному, религиозному принципу. В итоге вспыхнули вооруженные конфликты, которые унесли 200 тысяч жизней. Мне кажется, в судьбе Югославии отпечаталось ближайшее будущее Европы.
А. Ю. Движение за воссоздание «общности» подразумевает формирование общей истории. Прошлое, следовательно, может быть лишь искусственным — как и территория, к которой оно привязано.
Ф. Б.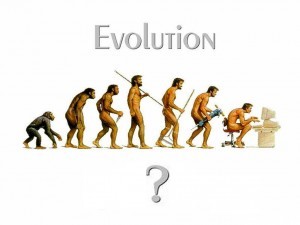 Американский философ Фрэнсис Фукуяма после 1989 года заявил, что история окончена и теперь наступит эпоха вечного мира, а также демократических и либеральных ценностей. Эта иллюзия просуществовала полгода; вскоре началась война в Заливе, за которой последовали события в Югославии. В ошибочном предположении Фукуямы заключается важный знак для последующих размышлений. История во времена Гегеля, Наполеона, в эпоху классовой борьбы, в эпоху модерновых обществ была не чем иным, как средством поиска большей рациональности: с ее помощью эволюция должна была стать органичной частью жизни человечества. Крепость политических институтов, богатство человечества воспринимались как свидетельства слияния эволюции и человеческой истории. Эта точка зрения себя исчерпала: сейчас мы уже более не живем в истории, понимаемой как Aufhebung, восхождение, переход на более высокий уровень рациональности. Сейчас мы живем в контексте истории, страдающей явным раздвоением личности: ее патология заключается в том, что она направлена против человечества, представляет собой насилие над естественным ходом вещей. Если это так, то можем ли мы вести разговор об истории так, как наши предшественники делали это сто или пятьдесят лет тому назад? Конечно, нет. Возможно, мы вернулись в эпоху, когда человек более не властен над своей историей. Следовательно, можно окончательно отменить слово «история» и вернуться к термину «эволюция», главное свойство которой заключается в абсолютном безразличии к судьбе человека.
Американский философ Фрэнсис Фукуяма после 1989 года заявил, что история окончена и теперь наступит эпоха вечного мира, а также демократических и либеральных ценностей. Эта иллюзия просуществовала полгода; вскоре началась война в Заливе, за которой последовали события в Югославии. В ошибочном предположении Фукуямы заключается важный знак для последующих размышлений. История во времена Гегеля, Наполеона, в эпоху классовой борьбы, в эпоху модерновых обществ была не чем иным, как средством поиска большей рациональности: с ее помощью эволюция должна была стать органичной частью жизни человечества. Крепость политических институтов, богатство человечества воспринимались как свидетельства слияния эволюции и человеческой истории. Эта точка зрения себя исчерпала: сейчас мы уже более не живем в истории, понимаемой как Aufhebung, восхождение, переход на более высокий уровень рациональности. Сейчас мы живем в контексте истории, страдающей явным раздвоением личности: ее патология заключается в том, что она направлена против человечества, представляет собой насилие над естественным ходом вещей. Если это так, то можем ли мы вести разговор об истории так, как наши предшественники делали это сто или пятьдесят лет тому назад? Конечно, нет. Возможно, мы вернулись в эпоху, когда человек более не властен над своей историей. Следовательно, можно окончательно отменить слово «история» и вернуться к термину «эволюция», главное свойство которой заключается в абсолютном безразличии к судьбе человека.
А. Ю. Интернет свел к минимуму усилия, связанные с поиском информации о прошлом. Французский историк Филипп Арьес в книге «Время истории» утверждает, что подобная всеядность на самом деле выступает явным доказательством «безличия» современного общества, чья попытка вернуть власть над собственной историей, над временем, над будущим обречена на неудачу.
Ф. Б. Дело в том, что история более не служит полем, на котором человек утверждает свою волю. С другой стороны, бесконечная скорость передачи информации в Сети более не поддается управлению человеческой волей. В этом смысле мы существуем уже вне «исторической» сферы. Эпоха истории как воплощения или осуществления человеческой воли и человеческого разума окончена. Возможно, мы стоим на пороге новой истории — истории самоорганизации Всеобщего интеллекта, понимаемого как метаисторическое пространство, где процессы эволюции имеют приоритет над придуманной историей.
А. Ю. Вы признаете за современным искусством способность формировать реальный контекст будущего?
Ф. Б. Эстетика — основной предмет моей исследовательской деятельности, однако при этом я абсолютно не представляю себе, что такое искусство в целом и современное искусство в частности. Рассуждая о нем, мы должны говорить о бесконечном поле явлений, об особой феноменологии, где присутствует все и противоположность всего. В этом контексте меня особенно интересует не рыночное или галерейное искусство, а искусство как терапия, как исследовательский зонд в эпицентре человеческого интеллекта. К выдающимся примерам поиска новой эстетики я отношу работы таких представителей современного искусства, как Гас Ван Сент, Ким Ки Дук; создателя «Натюрморта» Цзя Чжанкэ и автора «Поправок» Джонатана Франзена. Предмет их изучения — муки тела, внутреннего телесного пространства, протекающие в то время, когда сама эта телесность исчезает, когда нарушается психика человечества. В моем представлении глобальной задачей художественного и поэтического поиска сейчас становится создание органичного (то есть образованного по подобию человеческого тела) Всеобщего интеллекта. В этом смысле даже такие протестные движения, как Occupy Wall Street в Нью-Йорке или манифестации на площади Тахрир в Египте, кажутся мне масштабными произведениями искусства. Это не революции в том смысле, в каком о ней говорили Робеспьер или Ленин, а новый художественный способ воспевания коллективного тела человечества. Это и есть искусство, которое мне интересно.
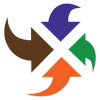
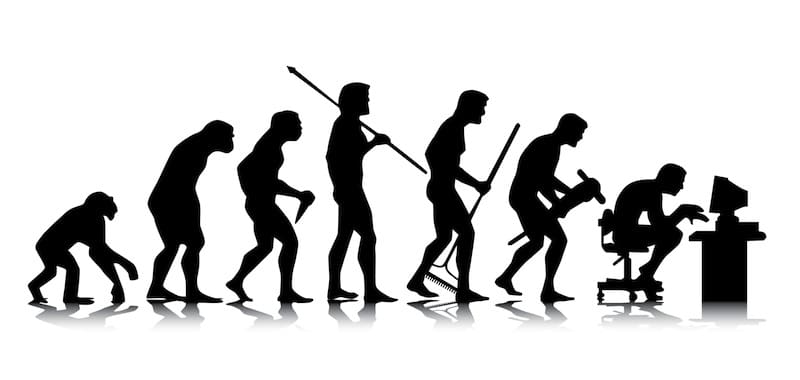
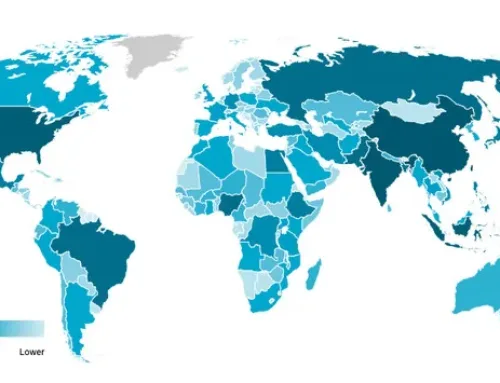



Оставить комментарий