Профессор МГУ, экономист Александр Аузан объясняет, что с точки зрения институциональной экономики и теории общественного договора происходило в России в два последних десятилетия и что может произойти в ближайшие несколько лет.
Череда переделов собственности, которая продолжается в России с начала 1990-хгодов, завязана на то, как устроена российская государственность и как у нас в стране формировался общественный договор. В конце 1980-х —начале 1990-х общественного договора у нас не было вовсе, внешним проявлением чего и стал распад государства, Советского Союза. Есть такое известное стихотворение Окуджавы: «Вселенский опыт говорит, / что погибают царства / не оттого, что тяжек быт / или страшны мытарства. / А погибают оттого / (и тем больней, чем дольше), / что люди царства своего / не уважают больше».
Этот надлом произошел, когда была исчерпана советская модель общественного договора. В СССР таких моделей было две, причем совершенно разные.
- В тоталитарном сталинском обществе был очень мощный механизм общественного договора: люди отдают практически все свои личные права, включая личную свободу, в обмен на возможность роста — личного роста и роста страны. При этом сам человек в результате может быть уничтожен или, скажем, увезен из столицы на Колыму, но таковы условия договора.
- В более позднее советское время общественный договор был принципиально иной: людям вернули права жизни и предложили социальные гарантии. Но в период с 1960-х по 1980-е годы эти гарантии выхолащивались: формально они росли, но фактического наполнения у них не было. В итоге контракт между советским государством и советским народом выветрился, как горная порода. Кухонные обсуждения ситуации в стране, вынесенные на съезд народных депутатов, показали, что договор не работает, люди не намерены его защищать. И потому великая империя без особых конвульсий сошла с исторической арены в 1991 году.
Разумеется, новое государство требовало нового общественного договора. Его фиксация произошла при принятии Конституции 1993 года, но кто заключал этот договор? Согласно теории общественного выбора, которую еще 30-40 лет назад разрабатывали Джеймс Бьюкенен и Гордон Таллок, конституционный договор — это сговор элит. Даже миллион граждан, не говоря уже о 150 миллионах, не в состоянии о чем бы то ни было непосредственно договориться. Поэтому изначально в заключении пакта участвуют небольшие, организованные и влиятельные группы, которые имеют разные взгляды и интересы. Этот пакт элит всегда выражается в некоем проекте конституции, который потом показывают народу. Будем считать, что граждане России одобрили такой договор на референдуме 1993 года. Но конституция была компромиссной, и при внимательном прочтении хорошо заметен ее пограничный характер: Россия одновременно либеральное государство и социальное, с разделением властей и суперпрезидентской властью.
В принципе проект был вполне работоспособен — вопрос был в том, смогут ли президент, правительство, парламент дальше организовать такое применение этой конституции, чтобы условия компромисса были выполнены, чтобы были обеспечены не только свободы, но и общественные блага, которыми для постсоветского населения были, прежде всего, доступ к образованию и здравоохранению. Но дальше оказалось, что практически все 1990-е годы общественного договора в России не было. По теории общественного выбора, социальный контракт существует на двух уровнях: во-первых, конституционный договор о распределении прав и свобод, который решает, как устроено государство, как принимаются решения, как устанавливаются налоги; во-вторых, постконституционный договор, который устанавливает, какие общественные блага должны производиться, и меняется от одного политического цикла к другому. Постконституционный договор сложиться не мог — именно поэтому страну так лихорадило, и она проходила кризис за кризисом, сначала политический, потом экономический. Фактически столкнулись две идеи: одна из них шла от президента и формулировалась как «свобода в обмен на поддержку», а другая шла от большинства в парламенте и формулировалась как «социальные блага в обмен на поддержку». Две группы «расщепили» статьи конституции о либеральном и социальном государстве и находились в непрерывной конкуренции. Результатом этой конкуренции было то, что по принятым на себя обязательствам государство было, несомненно, социальным. Либералы, которые контролировали президентскую власть, и коммунистическая оппозиция, которая контролировала парламент, принимали на себя все больше и больше нереалистичных обязательств. А общественные блага при этом не производились: образование проседало, здравоохранение проседало, доступность того и другого падала. Вместе с этим наступало естественное разочарование в демократии. Сколько раз можно провести своего избирателя? Ну два избирательных цикла, ну три. Фактически произошло очередное выхолащивание общественного договора, и тогда возникла формула, с которой часть ельцинской элиты шла на выборы вместе с Владимиром Путиным: «налоги в обмен на порядок».
Это было начало формирования постконституционного договора, которое было зафиксировано в преамбуле программы Грефа, то есть программы реформ первого путинского срока. Думаю, для того времени формула была вполне востребованная — после революции всегда появляется запрос на порядок, под которым, в принципе, понимают безопасность и правосудие. Кое-что для того, чтобы порядок был налажен, делалось: Путин убирал феодальные барьеры между губерниями, пытался убрать административный барьер для бизнеса в виде чиновников. Одновременно, между прочим, рос уровень реального налогообложения, и вовсе не из-за кампании «заплати налоги и спи спокойно». Налоги — это плата за общественные блага. А «заплати налоги и спи спокойно» — это типичный лозунг стационарного бандита, который понимает налоги как ренту: «Ты нам ренту заплатил — и мы отвязались». Мы тогда у себя в институте даже сделали майки, которые пользовались большой популярностью: «Я плачу налоги — а что взамен?» Потому что взамен-то требовались те самые общественные блага в виде правосудия и безопасности. Не получилось. После конфликта вокруг ЮКОСа оказалось, что, если действительно наводить правопорядок, чужое захватывать будет нельзя — у тебя его отнимут по суду. Значит, с точки зрения новых голодных групп, наладить правопорядок нельзя. С безопасностью тоже не получилось — Беслан показал, что государство не справляется с этой задачей.
Но именно после Беслана соцопросы свидетельствовали о том, что за безопасность люди готовы отдавать личные свободы. В этот момент, в 2003-2004 годах, произошел пересмотр общественного договора. Новый договор носил не столько политический, сколько символический, идеологический характер. «Пакет Путина» (отмена губернаторских выборов, реформа избирательного законодательства) основывался уже на другом размене: вы нам свои политические права (вы их депонируете, ими не пользуетесь), а мы вам — экономическую стабильность. И обе стороны — во всяком случае, до кризиса — выполняли договор. Соцопросы показывали, что большая часть населения России была против отмены губернаторских выборов, однако смирилась с этим. В то же время в 2004 году реальные доходы населения выросли на 11% и продолжали расти в дальнейшем.
Проблема в том, что стабильность и порядок — это очень разные вещи. Правопорядок предполагает предсказуемость, а в условиях 2003-2008 годов никакой предсказуемости у нас не было, потому что было непонятно, почему один сидит в тюрьме, а другой, точно такой же, — нет. Единственное правило: моим друзьям — все, моим врагам — закон. В тучные годы в России действовал общественный договор о стагнации, о застое, и именно поэтому у нас не произошло ни диверсификации, ни модернизации. Голодные группы, заинтересованные в разделе активов, размывают правила и каждый раз возвращают игру к исходной точке.
В новейшей истории России их было не так много: первое поколение голодных групп появилось в начале 1990-х, второе — в начале 2000-х. Возникает естественный вопрос: а откуда они берутся и будут ли появляться снова?
Нельзя считать, что новые голодные группы возникают автоматически, как чертик из табакерки. Разумеется, люди, которые хотели бы получить большой кусок пирога и при этом связаны с первыми лицами государства, существуют всегда. Но из этого совершенно не следует, что всегда будут появляться новые влиятельные группы, которые способны участвовать в полномасштабной дележке активов. Они должны быть достаточно массовыми и консолидированными — например, должны представлять определенные корпорации (скажем, специальные службы) или большие города. При этом ресурс корпораций и городов исчерпаем — скажем, сделать еще один призыв во власть из Питера, я думаю, практически невозможно. Город дважды сбросил десанты в Москву — в начале 1990-х и в начале 2000-х, — и все, кто хотел оттуда передвинуться, уже передвинулись, остались только те, кто либо не может, либо принципиально не хочет этого делать. Чтобы появились новые голодные группы, нужно, чтобы появились новые корпорации или города, способные дать большие массы людей — минимум 500 управленцев, которых можно расставить на самых разных позициях.
Сейчас в России, пожалуй, осталась только одна корпорация, которая не участвовала в карусели власти и может произвести новую голодную группу. В 2008 году было проведено знаменитое исследование российской элиты под руководством Михаила Афанасьева. Когда обсуждались результаты этого исследования, известный социолог, математик, глава фонда «Индем» Георгий Сатаров сказал на публичном обсуждении: «Если бы я по-прежнему был помощником президента, то, обработав результаты этого исследования, я бы немедленно позвонил президенту и сказал: у нас с вами проблема — это военные».
Военные — весьма амбициозная группа, которая категорически недовольна своим положением. Причем исследование Афанасьева было проведено еще до грузинской кампании, а ведь понятно, насколько сильно успешная война могла поднять самооценку военных. У людей во власти сейчас есть два варианта: искать способы расколоть эту группу или пойти с ней на сделку и дать возможность участвовать в дележе активов. Судя по тому, как развивается военная реформа, выбран все же первый вариант — раскол военных.
Однако вероятность попадания новых голодных групп в процесс раздела активов зависит от устройства власти. Почему в 1990-е годы это было сложно, а в начале 2000-х оказалось намного проще? Когда реально действует разделение властей, для того, чтобы добраться до ресурсов, мало просто сгруппироваться вокруг главы государства — вам нужно каким-то образом пробиться в правительство, которое не вполне контролируется президентом, потому что вынуждено оглядываться на парламент. Потом вы наткнетесь на границы закона о бюджете или какие-нибудь законодательные ограничения, и вам будет нужна поддержка в Госдуме, где полно других лоббистов. Затем вы столкнетесь с интересами губернаторов и их представителей в Совете Федерации. Короче говоря, это бег со многими препятствиями — нужно перепрыгивать очень много барьеров. А вот если вы свернули все это разделение властей в один комок — то, что у нас называется «консолидацией российской государственности», в этом случае, добравшись до его центра, то есть до фигуры президента, вы уже решили все свои проблемы.
С одной стороны, шанс появления новых голодных групп падает — откуда им взяться? Но с другой стороны, он совсем не нулевой, потому что в России сейчас все очень просто с барьерами. В отсутствии нормальной системы разделения властей доступ к первому лицу автоматически означает пропуск к переделу активов.
При этом общественный договор середины 2000-х стремительно исчерпывает себя. Путинская формула «политические свободы в обмен на экономическую стабильность» может реализовываться, пока у государства есть резервы. В 2009 году дали денег бюджетникам, обещали деньги пенсионерам. Но значительно наращивать объемы финансирования бюджетной сферы в 2010 году уже не получается, собственных резервов на это не хватает. Пока путинский договор жив, но его придется переформулировать по одной из двух причин. Либо потому, что кончатся ресурсы его поддержания, либо потому, что всерьез заниматься модернизацией в условиях консервирующего договора, который обеспечивает застой, невозможно. Многие кросскультурные исследования, скажем, Мичиганской школы, показывают, что модернизация происходит там, где доминируют ценности самореализации, самовыражения. Там, где доминируют ценности безопасности и выживания, хорошо строить огромные заводы и иметь авторитарный режим.
Речь идет о так называемых надконституционных ценностях, неформальных правилах, которые оказываются сильнее любых правил формальных и выражением которых, по большому счету, и является общественный договор. В теории все более или менее понятно, но как их обнаружить? В первой половине 1990-хв Вашингтоне была экономическая конференция, и американский профессор делал доклад, смысл которого сводился к тому, что есть три кита, на которых основывается любая успешная экономика: индивидуальная свобода, частная собственность и конкуренция. После доклада мы стоим в кулуарах с немцами, и они говорят: «Нет, ну конечно, индивидуальная свобода — это правильно, про конкуренцию тоже все верно, но ведь еще же нужен Ordnung, организованность нужна». Я отхожу от немцев к англичанам, рассказываю, что сказали немцы, — англичане смеются: «Ну конечно, немцы вспомнили про Ordnung, хотя на самом деле нужно говорить об индивидуальной свободе, о частной собственности и о традициях». Я говорю: «Слушайте, господа, вы владели самой большой империей в истории человечества. Вы мне сами скажете, как индийский или китайский экономист ответит на вопрос об этих трех китах?» Они говорят: «Александр, а как ответит русский экономист?» Я ушел думать — и думаю до сих пор.
Российские надконституциональные ценности пока не выявлены. Как это сделать? Очень часто подобные шаблоны можно обнаружить, например, в преамбулах конституций. И французы, и американцы — либеральные нации, но у них по-разному формулируются эти вещи. Если во Франции это «свобода, равенство, братство», то в Америке человек обладает правом на «свободу, собственность и стремление к счастью». Причем это не просто фраза, которую написал какой-то умник два века назад, а теперь ее повторяют в школах. Этот шаблон действует в реальной жизни. Я уже рассказывал про ситуацию в американском штате Калифорния, который в самом начале своей истории, в середине XIX века, почти 20 лет прожил без государства (см. номер Esquire за январь 2010 года). Там вроде бы не действовала конституция Соединенных Штатов, декларация независимости, но там действовали две системы раздела найденного золотого песка — долевая, если старатели действовали вместе, и поземельная, если каждый столбил собственный участок. Так вот, даже при долевой системе, если кто-нибудь из старателей находил самородок, он не поступал в раздел. Почему? Потому что каждый американец имеет право на счастье. Он же слиток нашел! Никакие системы регистрации прав здесь уже не действуют, в силу вступают надконституционные ценности.
Можно попробовать почитать преамбулу к нашей конституции. Между прочим, там записано примерно следующее: ценности, которые разделяли наши предки, а именно ценности добра и справедливости, мы дополняем ценностями современной демократии. То есть какое-то рассуждение в конституции есть, нужно только посмотреть, насколько оно соответствует российским реалиям. Но существует также некоторое количество косвенных методов — например, о надконституционных ценностях очень многое могут сказать язык и игры.
Когда американские друзья как-то раз затянули меня смотреть бейсбол, мне он показался игрой дико занудной. И вот я сидел несколько часов, смотрел на это все — и вдруг понял, что бейсбол прекрасно иллюстрирует американские надконституционные ценности: там каждый имеет возможность сыграть и имеет шанс выиграть. После этого я стал спрашивать наших бизнесменов и студентов, какая игра выражает российские ценности? Ответы были самые разные. Одни говорили: стенка на стенку, что правда, возьмите хотя бы «Песню про купца Калашникова». Другие говорили: прятки, что тоже не лишено оснований.
Если же говорить о языке, то в первую очередь нужно обращать внимание на слова, которые очень трудно перевести с русского. Например, слово «государство» (см. прошлый номер Esquire) или слово «воля», которое имеет полный спектр значений от делания чего угодно до не делания вообще ничего или от неограниченной свободы до решения первого лица выстроить всех в ряд и посносить им головы. Слово «воля» в известном смысле является предметом национального консенсуса.
При этом некоторых ценностей нам катастрофически не хватает. Например, у нас все отлично с креативностью, предложением нестандартных решений, но очень плохо — с технологичностью. Однако в основе этой проблемы лежит то, что в России не является ценностью закон. Есть такое представление: когда законы будут хорошими, мы их будем соблюдать. Нет, дорогие мои, если вы не умеете уважать закон вне зависимости от его качества, это бесполезно. Пока закон не возведен в ценность, самый обычный технологический стандарт будет презираться, как дурацкий, — «я придумаю лучше». Очень может быть, что человек действительно придумает лучше, но смысл стандарта заключается в его универсальности, в том, что все болты подходят ко всем гайкам. Технологичность становится ценностью, когда возводится в ценность закон, потому что это две стороны одной медали: в одном случае набор технических норм, в другом — общественных.
Юрий Лотман говорил о том, что архетип нашей культуры — это не договор, а вручение себя. И действительно, договороспособность в России воспринимается как безусловная слабость. Все наши политики — не только правящие, но и оппозиционные — исходят из установки: если ты стремишься договориться, значит, у тебя ничего нет. На мой взгляд, это абсолютно трагическая вещь. До тех пор, пока договороспособность будет восприниматься как слабость, рассыпанность, расточенность социального капитала будет нормой, отсутствие коллективного действия будет нормой, скандал на последней фазе общения между оппозиционными политиками будет нормой, авторитарная власть будет нормой.
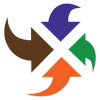







Оставить комментарий